|
 Верона — город красного мрамора. — Римский амфитеатр. — Могила Джульетты. — Виченца. — Театр Палладио. — Падуя и ее университет. — Анатомический театр. —Английские студенты-медики. — Святой Антоний Падуанский. — Дорога в Венецию. С Эмилией-Романьей я распрощался. Переправившись на левый берег, оказался уже в области Венето. Дорога манила в Падую и Венецию, но я оказался одним из немногочисленных путешественников, которые сознательно выбрали другое направление — отправился на запад, в Верону. Верона — город красного мрамора. — Римский амфитеатр. — Могила Джульетты. — Виченца. — Театр Палладио. — Падуя и ее университет. — Анатомический театр. —Английские студенты-медики. — Святой Антоний Падуанский. — Дорога в Венецию. С Эмилией-Романьей я распрощался. Переправившись на левый берег, оказался уже в области Венето. Дорога манила в Падую и Венецию, но я оказался одним из немногочисленных путешественников, которые сознательно выбрали другое направление — отправился на запад, в Верону.
(Фрагмент книги Мортон Г. От Милана до Рима: Прогулки по Северной Италии. Скачать книгу целиком можно по ссылке в конце страницы).
Как и в Ломбардии, где перевалы Симплон и Сен-Готард ведут к итальянским озерам и Милану, так и в Венето знаменитый перевал Бреннер ведет к озеру Гарда и Вероне. Невозможно определить, какие ворота в Италию производят более сильное впечатление.
Стоявший на стремянке человек приклеивал на стену афишу, рекламировавшую фильм «Мышьяк и старые кружева». Я посмотрел на объявление с некоторым интересом, но дело было не в фильме, а в том, что человек закрывал афишей розовый мрамор. Это очень характерно для Вероны: мрамор здесь повсюду, даже в сточных канавах. Самое впечатляющее зрелище, конечно же, знаменитый римский амфитеатр, вмещающий двадцать две тысячи человек. Там даже самые дешевые места в последнем ряду сделаны целиком из мрамора.
Розовый мрамор — некоторые писатели сравнили его с «цветущими персиковыми деревьями» — начинаешь замечать в Кремоне. Там встречаешь иногда колонну или скульптуру льва, только у этого мрамора нет сходства с полированной поверхностью стен в ресторанах и банках. Это — розоватый матовый материал, на котором время оставило свой отпечаток. На цветение персика он совсем не похож. Тем не менее это мрамор, потому некоторые площади Вероны напоминают залы гигантских дворцов, только без крыши.
Приехал я в полдень. Город заливал теплый свет, под мостами быстро бежала Адидже. Барочные изгибы реки словно бы подчеркивали красоту площадей, башен и дворцов. Я видел красные кампанилы многих церквей, и — слава богу — на главной улице было запрещено движение колесного транспорта. Только подумайте: улица, на которой не слышно рева моторов, улица, избавленная от шума, слышен лишь веселый говор веронцев, звук шагов по мраморной мостовой да ария, доносящаяся из магазина, торгующего граммофонными пластинками. Первое мое восторженное впечатление полностью совпало с чувствами Джона Ивлина, когда триста лет назад он увидел Верону: «Изо всех мест, что видел в Италии, Верону я сделал бы своим домом».
Я пошел к амфитеатру — веронцы называют его ареной — и с огромного мраморного овала посмотрел вниз. Этот древнеримский цирк сохранился до наших дней лучше, нежели какой-нибудь другой. На дальнем его изгибе, на нижнем ярусе, несколько человек устанавливали сцену, ставили фанерные деревья и обтянутые полотном реечные павильоны: готовились к представлению оперы Верди. Я подумал, что мужчины, работающие здесь, не менее интересны, чем здание, в котором они трудятся. Они стояли в конце длинной череды импресарио, менеджеров и рабочих сцены, начиная со времен Флавиев, что правили девятнадцать столетий назад. Подобные им люди работали в этом же здании, подготавливали его для гладиаторов и хищных животных. Вроде бы кто-то из Плиниев в одном из писем упомянул, что игры в Вероне отменили, так как леопарды не прибыли вовремя из Африки? В Средние века мужчины продолжали работать здесь: готовили амфитеатр для турниров и боя быков. Это место — прародитель всех цирков, театров и концертных залов, самое старое в мире помещение для проведения развлекательных мероприятий, которое к тому же до сих пор с успехом используется. Когда сто девяносто лет назад доктор Бёрни пришел сюда, то попал на представление комедии дель арте. Артисты так шумели, что ему показалось, будто сюда вернулись дикие звери! Затем он сел на мраморную скамью и впервые увидел «в полной итальянской чистоте» Арлекина, Коломбину и Панталоне. «Все они говорили на жаргоне или местных диалектах различных областей Италии». Вероятно, то было захватывающее зрелище.
По спокойной и безопасной виа Мадзини я вышел к одной из самых интересных площадей Италии — пьяцца делль Эрбе. Площадь продолговатая, похожа на римский форум, только сейчас ее окружают дома цвета охры. С балконов свешиваются папоротник и цветы, стены напоминают старинные фрески. Противоположный конец площади замыкает большой дворец барочной архитектуры и мраморная колонна, на которой стоит крылатый лев святого Марка. Середина площади расцвечена зонтиками торговцев, и, если охватить взглядом всю площадь, она напоминает огромный ковер. На рынке вы можете купить все, что угодно: от ситца до канарейки. Редко доводилось мне видеть более живой средневековый базар. Расхаживая от зонта к зонту, под каждым из которых стоял маленький прилавок, я наблюдал удивительных людей, торгующих самым желтым лимонадом и самыми яркими конфетами, а также овощами, одеждой и прочим, на редкость дешевым товаром, причем все это на фоне древнего мраморного города.
В самом центре слышится приветливый звук журчащей воды. Здесь поднимается над зонтами и над античной чашей фонтана римская статуя. В Средние века ее нашли безголовой, решили это дело исправить: приделали женскую голову и увенчали короной. В области ее называют Мадонна Вероны.
Самым важным объектом на площади является лев святого Марка, в знак того, что город признавал святого Марка своим покровителем. Случилось это в Вероне в 1405 году, когда правящую семью Скалигеров отстранили от власти и город был аннексирован Венецией. Так начались триста лет спокойствия и изобилия. Какими бы ни были грехи Венеции, имелись у нее и добродетели: доброта, кротость, справедливость и благополучие. Благополучие явилось в область с приходом Марка Евангелиста. Связь с Венецией объясняет то, что поражает туриста в первые часы пребывания в городе. Он сознает, что сходство с Венецией глубже, чем поворот реки Адидже, напоминающий изгиб Большого канала. В Вероне со времен венецианской власти ощущается дух имперского великолепия. Временами мне казалось, что я смотрю на Венецию, причем не такую, какая она сейчас, когда корабли ее заполнены многочисленными фотографами-любителями, но такую, какой она была когда-то. Наблюдая за мирно беседующими на мраморных улицах веронцами, я иной раз ощущал исходившее от них лукавство, которое связываешь обычно с венецианскими вельможами. А они в данный момент, я уверен, обсуждали вечную итальянскую проблему: как распорядиться будущим выигрышем в лотерее. Святой Марк дал мне ответ на вопрос: отчего Верона так сильно отличается от городов Ломбардии и Эмилии. Впервые я увидел город, который добился успеха не за счет местных настроений и традиций, а вследствие космополитизма, составляющего душу великой морской республики. Мне казалось, я чувствую запах Адриатического моря, и в воображении возникал флот, возвращающийся со специями из далеких стран под звон колоколов. Арка пьяццы делль Эрбе вывела меня на еще более великолепную площадь Синьории. Такого ансамбля нет в Риме, не говоря уже о Венеции: два прекрасных архитектурных творения, разделенных аркой. Здесь я остановился. На сегодня довольно впечатлений. Я узнал один из самых благородных городов Италии.
По этому моменту вы можете в Вероне сверять часы. Заходит солнце, и вечер вдруг расцветает — это выходят из домов сотни молодых женщин в лучших своих платьях из хлопка. В наши дни только в Испании и Италии можно увидеть восхитительное возрождение общества XVII века. Здесь его называют паседжата. Совершается это действо на виа Мадзини: транспорта мало. Любой, кто пожелает, может с приятностью провести здесь время, любуясь аккуратно причесанными головками, красиво обутыми ножками и элегантными платьями без единой морщинки. Доктор Бёрни в свое время писал, что «дамы здесь носят черные шелковые шляпы, поля которых они заламывают, как английские мужчины. Остальные женщины не снимают черных шелковых капюшонов».
Мне рассказывали, что как только девушка заканчивает работу, тут же бежит домой, приводит в порядок прическу, возможно, меняет чулки и туфли и вынимает из шкафа висящее на специальной вешалке платье для прогулки — паседжата. Платье должно быть безупречно отутюжено. В нем нельзя сидеть, а если уж придется это сделать, девушка быстро поднимет подол и сядет на нижнюю юбку; Одевшись, девушка выходит из дома и на перекрестке встречается с самой лучшей, на данный момент, подругой, а возможно, и с несколькими приятельницами, и они начинают медленно расхаживать взад и вперед по виа Мадзини. Процедура напоминает брачные игры некоторых видов хорошеньких птиц. Интересно пронаблюдать, какая перемена происходит в гордой девушке, которой удается привлечь молодого человека — жениха-фиданцато. Покинув ряды своих подруг, она присоединяется к тем, кого уже ангажировали. Весь этот парад настроен ужасно серьезно. Среди представительниц своего пола девушка казалась смелой и способной вынести все тяготы жизни, теперь же, подле мужчины, она производит впечатление беспомощной и застенчивой особы. Абсолютно неважно, что поклонник ее мал и невзрачен, манеры ее указывают на очаровательную уверенность в мужестве своего спутника. Но все это ничто по сравнению с необычайной переменой, которая происходит с ним. Мгновение назад он был диким на вид холостяком, хихикавшим с другими такими же неприкаянными приятелями возле кафе, либо сумасшедшим мотоциклистом, бесцельно гонявшим по улице на «веспе». Теперь же перед вами мягкий, послушный, но в то же время гордый поклонник. Бывшие дружки все еще сидят, цинично улыбаясь, возле кафе либо перешептываются, наблюдая, как он прогуливается мимо них со своей девушкой. Во взгляде, который он бросает на них, можно прочитать смутные опасения человека, перешедшего свой Рубикон.
2
Людей, которых я встречал в Вероне, переполняло столь присущее итальянцам желание понравиться. Я чувствовал, что их доброта и любезность были в определенном смысле отражением прекрасного города, в котором им повезло жить. Из всех городов, что я видел в Италии, Верона дала мне величайшее наслаждение. Элегантный, красивый город. Он не слишком велик, но и не мал. Цветовая гамма радовала глаз: розовый кирпич средневековых зданий с зубцами в виде рыбьих хвостов, тускло-красный мрамор, красновато-коричневые стены старинных дворцов, алые герани на балконах, голубая лента реки — все вместе создавало союз веков, и это будило воображение.
Каждое утро, когда я входил под арку, невольно вспоминал Мост вздохов. С людной пьяццы делль Эрбе я входил на величественную площадь Синьории. На пьедестале о чем-то задумался Данте. Верона любит вспоминать, что двор Скалигеров был первым, где поэт нашел убежище. В нескольких шагах отсюда стоит одно из красивейших зданий Ренессанса, маленький дворец под названием «Лоджии». В конце XV века его построил неизвестный гений. Судя по всему, он любил классику, и это роднит его с Пирро Лигорио, чей летний дом в садах Ватикана всегда казался мне одним из самых жизнерадостных, счастливых зданий той поры.
Еще несколько шагов, и вы выходите на узкую улицу, самое потрясающее зрелище в Вероне. Сначала кажется, что вся она заполнена готическими могилами. Надгробья из белого камня, шпицы, фигуры святых и рыцарей в доспехах. Когда видишь все это впервые, кажется, что угодил в Средневековье на похороны несметного количества людей и процессия остановилась на боковой улице, чтобы поправить мемориальные таблички, опустить черный бархат и проверить, горят ли свечи. Здесь есть могилы Скалигеров и средневековой аристократии Вероны.
Гробницы были слишком высокими, и поместить их в здание не представлялось возможным. Сейчас они стояли на улице под ярким солнцем, окруженные железной решеткой с металлической сеткой. Ограда была столь крепкой, что выдержала бури, в течение пятисот лет набрасывавшиеся на город. Вместе с тем металлическая сетка была такой легкой, что ее можно было взять в руку и потрясти, словно кольчугу. Каждое звено металлической решетки сделано в форме маленькой лестницы из пяти ступенек. Это намек на то, что первый Скалигери либо делал, либо продавал лестницы.
Я обратил внимание на пять могил. Три из них — с помещенными сверху конными скульптурами рыцарей. Эти правители Вероны жили в то время, когда в Англии правили Плантагенеты, последние Капетинги и первые Валуа — во Франции и когда на смену императорской линии Гогенштауфенов в Германии пришли Габсбурги. В Италии они были современниками первых Висконти — Матео, Галеаццо и Аццо, но другие великие итальянские семьи пока еще о себе не заявили. Скалигеры создали в Вероне империю и установили свои законы: жестокость и роскошь, с чем население слишком хорошо познакомилось в будущие времена.
Самым великим и популярным из этой династии был Франческо, или Кангранде (Большая Собака). Он, кажется, первым из семьи носил шлем в форме собачьей головы. Его изображение можно увидеть на гробнице. Он представлен здесь на боевом коне, с головы до копыт покрытом чепраком. Кангранде в боевых доспехах, шлем в форме собачьей головы перекинут через плечо. В руке он сжимает меч. Улыбающееся лицо Франческо вызывает в памяти его знаменитое развлечение, которое расположило к нему большинство веронцев. Я сказал маленькому мужчине, который отпер для меня железную калитку: «Странно видеть человека, смеющегося на собственной могиле». Он торжественно посмотрел на меня и ответил: «Мы в Вероне всегда говорим: Кангранде никогда ничего не боялся».
Контраст между веселым всадником, каким его знали в жизни, и нижними ступенями его памятника весьма странен. Здесь еще одно изображение Кангранде: он лежит на смертном одре с мечом в сложенных руках. Под ним красивый саркофаг, установленный на спинах двух мастиффов.
Возле ворот могила Мастино II, племянника Кангранде и отца Беатриче делла Скала, той, что вышла замуж за Бернабо Висконти и дала свое имя Ла Скала в Милане. Десять ее дочерей разъехались по всей Европе. Одна из них стала королевой Кипра, другая — герцогиней Леопольдой в Австрии, три других влились в династию Виттельсбахов.
Мастино был странным и подозрительным человеком, не умевшим справиться со своими нервами. Однажды, выехав верхом вместе с епископом, он вдруг выхватил меч и убил несчастного прелата. Потом постарался оправдать себя тем, что — по его понятиям — епископ готовил против него заговор. Угрызения совести мучили его до конца жизни. С тех пор, говорят, его лицо постоянно закрывала вуаль. Возможно, то была средневековая метафора, означавшая, что он отрастил себе бороду. Вот и на надгробии лицо закрыто забралом. Сын его, Кассинорио, чья могила находится рядом, был одним из редких людей того времени, что снизил налоги и в голодные годы продавал зерно ниже себестоимости. Удивительное событие произошло после его смерти. Было обнаружено, что он сделал себе состояние, сдавая в аренду церковные земельные наделы, да и в других отношениях проявлял нечистоплотность. Грехи эти не были отпущены ему на смертном одре, а потому было решено простить ему их посмертно. Мессу совершили среди могил. Затем принесли лестницу, чтобы епископы Вероны и Виченцы могли подняться на высокий саркофаг и побрызгать на него святой водой, отпуская тем самым грехи покойному.
Скалигеров приятным семейством не назовешь. Они были сказочно богаты, щедры к тем, кого любили, но при этом страдали неврозами и были склонны к братоубийству. К музам относились с аристократическим безразличием, и все же, как ни странно, Данте посвятил Кангранде свой «Рай», чем и прославил этого правителя. Говорят, он посылал ему главы из своей поэмы по мере их написания. Представить себе лорда-воителя в виде литературного критика и покровителя почти невозможно, тем более что, как рассказывают, когда Данте приглашали в Верону, он часто становился объектом розыгрышей. Шуты и актеры, недовольные тем, что поэт смотрел на них свысока, послали однажды маленького мальчика под стол, и он складывал к ногам Данте кости, которые сами они во время обеда швыряли на пол. Когда стол отодвинули, Кангранде, картинно изумившись, сказал, что и не знал, что поэт так любит мясо, на это Данте будто бы ответил: «Милорд, вы не увидели бы здесь так много костей, если бы я был собакой».
Если эти истории верны, то вряд ли поэт мог быть счастлив в такой компании. Многие годы литературные критики спорили — а сейчас эти споры возобновились — относительно подлинности послания Данте Кангранде, в котором он превозносит «выдающуюся славу Вашего Величества» и упоминает великолепие двора Скалигеров, которому сам был свидетелем, и оказанное ему там гостеприимство.
Любопытен контраст между грубой сценой в столовой и тем фактом, что некоторые альпийские деревни освобождались от налогов до тех пор, пока заполняли ледники Скалигеров своей продукцией.
3
Покровитель Вероны, святой Зенон (Дзено), был рыбаком. В церкви, названной его именем, можно увидеть изображение Дзено. Он держит удочку, а с крючка свешивается серебристая рыба. Когда он стал священником, на его епископский посох художники непременно прикрепляли рыбу. Церковь Сан-Дзено построили в эпоху крестоносцев и во времена правления Ричарда Львиное Сердце. Если вы спуститесь в древний склеп, то увидите кости святого в стеклянном ларце. На дверях церкви бронзовые накладки с барельефами. Некоторые фигуры поднимаются на два-три дюйма над поверхностью. Когда я смотрел на эти примитивные библейские сцены, подъехал маленький автомобиль. Из него выскочили двое молодых людей. Один из них взбежал по ступеням церкви с полотняным мешком, а другой остановился у дороги и, поглядывая по сторонам, вроде бы прикрывал приятеля. Первый парень быстро вынул из мешка кусок глины и стал прижимать ее к бронзовым панелям. Сняв два-три отпечатка, бегом бросился к машине. Там его поджидал компаньон. Машина уехала. Вся операция заняла не более трех-четырех минут. Не знаю, кто они были: студенты академии художеств, охотники за сувенирами или антиквары. Я решил: если увижу в антикварном магазине бронзовую панель со сценой изгнания из рая, тут же перейду на другую сторону!
Впечатляющий старинный баптистерий собора разрешил для меня проблему, о которой я впервые задумался в Парме, когда увидел там купель величиною с маленький плавательный бассейн. «Как же проходило массовое крещение, — думал я, — неужели священник влезал в купель вместе с людьми, над которыми он совершал обряд? А может, он стоял снаружи?» Купель в Вероне все мне разъяснила: для священника предусмотрено отверстие, вернее, выемка. В ней епископ мог стоять, не снимая обуви. «Так, должно быть, устроено повсюду», — решил я.
На взгляд англичанина, сады Джусти в Вероне привлекательнее большинства регулярных итальянских садов. На заднем плане здесь крутой холм, засаженный красивыми деревьями. Огромные древние кипарисы отбрасывают длинную тень; аккуратные ряды пальм обрамляют яркие клумбы с путницей и геранью. Со вкусом расставлены скульптуры, из кадок поднимаются подстриженные лимонные деревца; работают фонтаны. Мраморные скамейки приглашают присесть и поразмыслить, хотя бы о том, что неплохо бы здесь поставить «Двенадцатую ночь». Сад был создан несколько веков назад. Во времена правления Якова I в этом лабиринте потерялся Томас Кориэт. Пришлось его оттуда вызволять. Гёте, ни разу не упомянувший могилы Скалигеров, просто обожал сад Джусти. Однажды он произвел небольшую сенсацию: расхаживал по Вероне с веткой кипариса, украшенной шишками, и с цветущим каперсником. Все это он взял в любимом саду.
Элегантный маленький римский театр, разумеется, мраморный, в то время не был найден. Обнаружили его в прошлом столетии под зданиями, которые когда-то здесь стояли. Как бы понравился Гёте этот грациозный полукруг мраморных сидений! Все так хорошо сохранилось, что теперь здесь иногда дают представления.
Я снова вспомнил о Гёте, когда транзистор вблизи арены выдал позывные Би-Би-Си. «На каждой улице распевают балладу "Мальбрук"», — писал Гёте в 1784 году.
Еще раз я подивился способности итальянцев к реставрации, на которую обратил внимание в восстановленном оперном театре Милана. В Вероне восстановили кирпичный мост, взорванный немцами прежде, чем уйти через перевал Бреннер. Кто бы мог поверить, видя сейчас этот мост с его романтическими зубцами, похожими на рыбьи хвосты, что это не то сооружение, которое Кангранде II построил в XIV веке? Мост ведет к замку, тоже из красного кирпича, с такими же зубцами, как и на мосту. Оба сооружения составляют архитектурный ансамбль. Теперь замок — музей и картинная галерея, но самая лучшая картина — это вид из окон на голубую ленту Адидже и мост внизу. В зале, где сейчас можно увидеть много знаменитых картин, графа Чиано и его товарищей, готовивших заговор против Муссолини, приговорили к смерти в 1944 году. В соседней комнате есть мрачные фотографии Кангранде. Это его останки. Такими их увидели те, кто открыл саркофаг в 1921 году. Есть также и несколько кусков красивой парчи, в которую завернули шестьсот лет назад правителя Вероны.
4
Веронцы уверяют, что Ромео и Джульетта были историческими фигурами. Вам скажут, что жили они примерно в 1303 году во время правления старшего брата Кангранде — Бартоломео делла Скала, что Джульетту похоронили на кладбище ныне не действующего францисканского монастыря, возле южной городской стены.
История о двух влюбленных старая и популярная. В некоторых версиях действие происходит не в Вероне. Первым писателем, рассказавшим об этом, был Луиджи да Порто в своей книге «Джульетта и Ромео» — и по сей день итальянцы галантно ставят на первое место Джульетту. Затем этот рассказ был повторен другими писателями, и переведенные версии, как считают, и были источниками для Шекспира. Все эти факты, однако, мало что значат для тысяч людей, едущих в Верону из всех стран мира. Им нужен не амфитеатр и не могилы Скалигеров, им нужна могила Джульетты. Возможно, некоторые сочтут такое поведение печальным, а англичане, бесспорно, почувствуют прилив гордости: ведь это их соотечественник Шекспир пригнал в Верону автобусы из Гамбурга, Осло, Копенгагена, Вены и бог знает откуда еще. Люди эти и слыхом не слыхивали о да Порто или Банделло. Историю несчастных влюбленных Ромео и Джульетты они знают только из пьесы Шекспира.
Верона — город балконов, и да Порто, живший неподалеку, в Виченце, хорошо это знал. То, что он решил перенести действие своего рассказа в Верону, — местный штрих, которым Шекспир, в свою очередь, блестяще воспользовался. Один балкон в Вероне в живописном средневековом доме на виа Каппелло показывают туристам, заявляя, что это дом Джульетты. На стене дома прикреплена симпатичная, но явно не историческая доска, которая утверждает то же самое. «Дом Капулетти, — гласит доска, — где родилась Джульетта, по которой рыдали нежные сердца, а поэты слагали песни». Строки эти вселяют надежду, и человек в приятном, растроганном настроении отправляется к могиле Джульетты.
Короткая пешая прогулка приводит к уединенному монастырю, где смотритель, улыбаясь, берет деньги за вход и машет рукой в сторону восхитительного маленького монастыря с симпатичным садиком, облюбованным голубями. Несколько ступеней вниз, и вы оказываетесь в сводчатом помещении с необычайно большим саркофагом из розового мрамора. Цинично настроенные знатоки говорят, однако, что первоначально это была кормушка для лошади. Я спустился по лестнице и привел в замешательство молодую пару: стоя по обе стороны от саркофага и держась за руки, они собирались поцеловаться. Впоследствии я узнал, что у влюбленных такой обычай: они идут к гробнице Джульетты и загадывают желание. Как сказала мне одна молодая женщина, «если сердца их чисты, желание наверняка сбудется». Такой ритуал показался мне симпатичным. Склеп был наполнен розовым светом, отраженным от верхнего помещения, и саркофаг выглядел весьма поэтично, словно раковина на дне моря. Невозможно было смотреть на него и не вспомнить строки Шекспира:
.. .здесь лежит Джульетта,
И эти своды красота ее
В блестящий тронный зал преображает1.
1 Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник.
О рвении, с которым английские туристы отщипывают фрагменты гробницы, упомянул в 1814 году Сэмюэль Роджерс. Байрон, разумеется тоже добавил кое-что к своему сентиментальному музею. Для того чтобы изготовить два браслета, замеченные Шатобрианом во время обеда в Парме на Марии Луизе, потребовался также большой кусок камня. Но все это ничто по сравнению с невероятным фактом, про который я узнал совершенно случайно: культ Джульетты в наше время настолько силен, что у нее есть секретарь, отвечающий на письма поклонников!
Гуляя по монастырю, я заметил встроенный в стену маленький стеклянный ящик, обрамленный мрамором, со щелью для писем. Рассеянно заглянув сквозь стекло, я увидел гору записок, торопливо нацарапанных на клочках бумаги, листках, вырванных из записных книжек, старых счетах и т. д. Все это напоминало записки, которые дети пишут Санта-Клаусу. Некоторые из них не были сложены, а две можно было разобрать. Обе написаны были по-итальянски, и обе начинались: «Сага Giulietta» — «Дорогая Джульетта». На одной бумажке я прочитал: «Мы двое молодых влюбленных, путешествуем после свадьбы. Помоги нам Джульетта, чтобы любовь наша становилась сильнее с каждым днем». На другой записке: «Моя любовь сейчас далеко отсюда. Пусть он побыстрее приедет, я хочу, чтобы мы не расставались».
Я был поражен. Интересно, знает ли духовенство Вероны, что старый францисканский монастырь сделался храмом Афродиты? Один из служителей сказал мне, что ящик в стене содержит только письма, написанные прямо у саркофага. Большая часть корреспонденции поступает по почте, приходит из многих стран и на многих языках. Муниципалитету пришлось нанять секретаря, чтобы он занимался письмами. Секретарь, как мне сказали, пожилой джентльмен, вышедший на пенсию, должно быть, похож на старого монаха Лоренцо.
— А письма эти от мужчин или женщин? — поинтересовался я.
— Есть и от мужчин, но в основном пишут женщины. Выйдя из монастыря, я встал в сторонке, пропуская оживленную толпу путешественников разных национальностей, выгрузившуюся из двух только что прибывших автобусов. Меня окликнули, и вот я уже трясу руку маленькому немцу из Мантуи. Он по-прежнему обвешан фотокамерами. Позади него жались жена и две дочки. Связь Шекспира с Вероной довела немца до экстаза: он задыхался от волнения.
— Пожалуйста, — сказал он и сунул мне камеру, — будьте добры, сделайте снимок.
Схватив за руку другого пассажира, он повел его к указателю под кипарисовыми деревьями. На указателе было написано: «Могила Джульетты». Немец с товарищем взяли друг друга под руку и замерли. Я их сфотографировал.
— Вы так любезны, — сказал он. — Знаете, как я назову эту фотографию? Ну что ж, скажу по секрету. Два веронца!
Заливисто смеясь, он повесил камеру на шею и, тяжело ступая, зашагал по тропе к могиле Джульетты.
5
Дорога от Вероны до Виченцы проходит мимо полей, засаженных свеклой, кукурузой и виноградниками. От ветров, дующих с Альпийских гор, ее охраняют лесозащитные полосы из акаций. Предгорья устремились на север, к большим горам, окружившим перевал Бреннер. Мне говорили, что в ясные дни можно на горизонте разглядеть их фиолетовые силуэты.
Со мною в автомобиле ехал мой итальянский знакомый, продавец мрамора из Вероны. В городке Монтеккьо Маджоре, расположившемся в гористой местности чуть в стороне от главной дороги, у него была назначена деловая встреча. Мрамор для сеньора X. не просто геологическое явление или коммерческий продукт, это жизненная философия. История складывается для него из двух составляющих: есть каменщики и есть плотники. Камень означает цивилизацию, дерево — варварство. Он станет спорить с вами и скажет, что тевтонские племена, захватившие Италию во времена Средневековья, были лесными людьми, чужестранца здесь до сих пор называют форестиро. Они испугались того, что вошли в мраморный мир, и предпочли жить на открытом пространстве, как дикие звери. Это обстоятельство позволило латинянам выжить в окруженных каменными стенами городах, построить в Средние века каменные соборы и дворцы, а в эпоху Ренессанса довести до совершенства работу с мрамором. Он цитировал Поджо и Торквато Тассо, желая доказать, как шокировали итальянских путешественников эпохи Ренессанса безобразные деревянные дома Парижа и Лондона. Это жилища варваров, ничего не смыслящих в архитектуре! Самые жалкие каменные развалюхи в трущобах, на его взгляд, более достойны человека, чем любое деревянное здание.
Было приятное свежее утро, мы разговаривали о мраморе и об упадке цивилизации. Согласно его теории, упадок в промышленности начался с 1929 года. За время поездки я многое от него узнал: самый лучший серый мрамор приходит из провинций Кунео, Навара и Гориция; зеленый надо смотреть в Валле-Д'Аоста; в Бергамо отличный черный мрамор; в Вероне — розовый, но до сих пор самым знаменитым мрамором считают, как и в классические времена, каррарский мрамор. Его добывают в каменоломнях Апеннин. Он с удовольствием упомянул о выгодной сделке, которую совершил с представителями Саудовской Аравии. Возможно, гибнущая здесь цивилизация возродится в других местах.
Высадив его в Монтеккьо, я отправился осматривать руины двух замков, стоящих друг против друга на соседних холмах. Легенда утверждает, что замки принадлежали Монтекки и Капулетти, но я склонен думать, что это — крепости Скалигеров. Поднявшись на один из холмов, я вошел в разрушенный двор замка и увидел там двух канадских девушек, стирающих в ведре нейлоновые платья. На месте замка ныне раскинулся кемпинг, с водой и электричеством. Группа молодых хайкеров отправлялась в Венецию, нагруженная не хуже мулов. Собирались в дорогу и мотоциклисты. Возможно, что их притягивал к себе тот же магнит. Увидел я и длинный трейлер, в котором среди хромированных приборов жила себе поживала большая немецкая семья. Не успел я охватить взглядом всю сцену, как послышался вой двигателя: так заявила о своем появлении итальянская пара, восседающая на главном герое итальянской автострады — нагруженном сверх всякой меры мотороллере «веспа». Канадским девушкам, несмотря на сложности быта, очень нравился их кемпинг, тем более что всегда можно посидеть в находящемся неподалеку ресторане, носящем название «Таверна Джульетты».
Никогда еще, возможно, со Средних веков путешествие не было таким будничным, никогда столько путешественников не устремлялось вдаль практически без денег. Тем не менее настроение у всех было отличное, и не важно, что приходилось считать каждый пенс, а спать порою на голых досках или просто под звездами. Я вовсе не горю желанием стать вновь двадцатилетним, но если бы меня вдруг забросило в юность еще раз, то путешествовал бы я впервые по Италии только так, а не иначе.
В кафе мне приветливо помахал рукой синьор X. Он заключил свою сделку и сказал, что поедет со мной в Виченцу. И мы поехали вниз по склону к главной дороге, вдоль которой, словно пажи, выстроились виноградники, а подросшая кукуруза напомнила мне копья приближавшейся кавалерии. Кто-то говорил мне, что несколько лет назад синьор X. ездил в Лондон для встречи с архитекторами, которые хотели купить мрамор для банка или небоскреба. С тех пор его высказывания относительно Англии считались авторитетными. Я упомянул об этом и, к моему удивлению, узнал, что в Англии он обнаружил некоторые достойные национальные особенности, которых сами мы у себя сегодня не замечаем.
— Я всегда говорю тем, кто приходит ко мне за советом перед поездкой в Англию, — произнес он. — Когда снова начнется всемирный потоп, англичане умрут все вместе, но здесь, в Италии, из воды высунутся некоторые головы. Однажды ночью, — продолжил синьор X., — я специально ходил к Букингемскому дворцу, чтобы посмотреть, ходят ли там часовые. И они ходили! — заявил он. — А ведь, кроме Бога, их никто не видел. В Италии такого произойти не может.
Я напомнил ему о двух скорбно склонившихся молчаливых фигурах по обе стороны от Могилы неизвестного солдата в Риме.
— Да разве можно это сравнивать! — закричал он. — Это вам могло показаться, что они молчат. Но я-то знаю, они потихоньку разговаривают, стараясь не шевелить губами. И знаю, о чем они говорят. Они критикуют Виктора Эммануила за то, что тот поставил памятник, и неизвестного солдата за его могилу... Такие вот мы, итальянцы...
Я напомнил ему о часовом Помпеи.
— Должно быть, это британец, — последовал ответ.
Утреннее солнце Виченцы освещало величественную картину, которая ни в одном другом месте Италии не напоминала бы так Англию XVIII столетия. По обе стороны от дороги вставали коричневато-желтые дворцы. Построил их человек, давший английскому языку термин, который многим не нравится, однако не меньшее число людей его одобряют: слово это — палладианство. Звали его Андреа ди Пьетро, родился он в 1518 году и начинал как каменщик. В то счастливое время городская знать организовала общество, которому дали название — Академия. Свою жизнь эти люди посвятили самому захватывающему делу для любителя — строительству. Среди руководителей Академии был граф Триссино. Разглядев в юном каменщике выдающиеся способности, он отправил его в Рим учиться архитектуре. Андреа вернулся в Виченцу с честолюбивыми планами: он хотел оживить строгую августовскую архитектуру, сделать ее такой, какой видел ее Витрувий. Так началась триумфальная карьера молодого архитектора, и патрон уговорил его сменить свое имя на Палладио.
Во время последней войны бомбы уничтожили четырнадцать палладианских дворцов, но в городе все же на каждой улице есть уцелевшие здания. Каким же счастливчиком был Палладио: столько клиентов хотели и были в состоянии заказать у него дворец, и при этом предоставляли ему полную свободу действий.
— Ах, ну какая же это в самом деле трагедия! — воскликнул синьор X., когда мы проезжали мимо дворцов. — Такая великолепная классика, и без мрамора! Все кирпич и штукатурка. Только представьте, как бы все это выглядело в мраморе! Душа болит из-за бедного Палладио!
1 Иниго Джонс (15.07.1573, Лондон — 21.06.1652, там же), английский архитектор. Изучал архитектуру между 1596 и 1614 гг. в Италии и Франции, в 1615—1643 гг. главный смотритель королевских зданий. Джонс стремился освободить английскую архитектуру от средневековых пережитков и утвердить в ней принципы классического зодчества — ясность композиции и благородство пропорций. Составил проект ансамбля дворца Уайтхолл в Лондоне (осуществлен только Банкетный зал), построил виллу королевы в Гринвиче (1616—1635), центральную часть дворца Кобем-холл (Кент, 1620), выполнил интерьеры дворца Уилтонхаус (Уилтшир, около 1649—1652).
Я напомнил ему, что здания, которые Палладио хотел бы построить из камня, должны были подняться не в Италии, а в далеком Лондоне и среди лесов и лугов английских графств. В библиотеке Вустер-Колледжа в Оксфорде имеется экземпляр книги Палладио об архитектуре. Иниго Джонс1 возил ее с собою по время второй поездки по Италии. Надеюсь, лекарство от несварения желудка, рецепт которого владелец тома записал на страницах для заметок в конце книги, помогло ему сделать свое путешествие более приятным. Он вернулся, и последствия итальянского путешествия в течение двухсот лет оказывали огромное влияние на Англию: архитектура противопоставила себя бездушному строительству. Когда проходите мимо дворца Уайтхолл, вспоминайте, что это — итальянский палаццо, почерневший более чем за триста лет от лондонского смога. Когда-то в Банкетном зале этого дворца Иниго Джонс воплотил все, что он узнал в Виченце и других местах Италии. Это было первое по-настоящему ренессансное здание Англии, тем же, кто увидел его в 1622 году — всего лишь через шесть лет после смерти Шекспира, — оно должно было показаться таким же странным, какими кажутся нам теперешние дома из стекла и бетона.
Ричарду Бойлю, третьему графу Берлингтону, было около двадцати лет, когда он — столетием позже — приехал в Виченцу с рулонами навощенной бечевки, на которой узелками была отмерена длина, равная футу. С такими мерными лентами серьезно настроенным путешественникам того времени советовали ехать в Италию. Берлингтон похвастался, что измерит каждое здание, построенное Палладио. Вернувшись домой, с помощью другого гения той эпохи, Уильяма Кента, граф-архитектор начал претворять свои уроки в камне. Старому зданию Берлингтон-Хаус на Пиккадилли был придан палладианский фасад, скопированный с палаццо Кьерикати, ныне музея Виченцы, но самое знаменитое его заимствование — это вилла Чизик-Хаус, прототипом которой послужила вилла Альмерико. Вилла после войны находилась в полуразрушенном состоянии, но с тех пор ее замечательно восстановили.
Почему из всех зданий, зарисованных и измеренных в Италии, архитектура Палладио так сильно привлекла англичан? Может быть, сдержанность отвечала национальному характеру? Может быть, помпезный стиль не устраивал страну, а может быть, оттого что сравнительно небольшой загородный дом Палладио отвечал канонам классического архитектурного стиля. Палладианская вилла под бледным английским небом стоит, словно памятник энтузиазму, которого — увы — мы уже больше не встречаем.
Мы прошлись по приятному, светлому городу и пришли отдохнуть в кафе, рядом с шедевром Палладио — огромной готической ратушей, которой он придал классический фасад. К нашему столику подошли два друга синьора X. Они взволнованно рассказали о фантастической краже. Ночью вор похитил пасть льва! В Венецианской республике были почтовые ящики, в которые можно было положить донесение, предназначенное для тайной полиции. Называли такие ящики «пастью льва», потому что верхняя их часть была сделана из бронзовой головы льва, а письмо опускали в открытый рот.
Мы поспешили к месту преступления, которое оказалось за углом, и увидели небольшую толпу. Возле отверстия в стене собрались люди из администрации и полицейские. Вор распилил металлические зажимы, которыми голова льва крепилась к стене, и похитил ящик. «Наверное, это американский турист», — предположил кто-то. Нет, нет, зачем туристу такая бронза?
Синьор X. думал, что он где-нибудь найдет еще такую голову, но смотрели мы напрасно.
— Какая неприятная система, — сказал я, — приглашать горожан шпионить друг за другом.
— Да, — согласился он, — но венецианцы умели анализировать такие письма. У человека, желавшего насолить ближнему, шансов почти не было. Настоящее зло совершалось тогда, когда кто-то по наущению сверху опускал в ящик компрометирующие сведения на человека, которого правительство и само хотело уничтожить.
Важная достопримечательность Виченцы — театр Олимпико. Палладио строил его незадолго до смерти. Первое представление было показано в 1584 году. Сцена выглядит почти так же, как и в те времена. Действие совершается перед постоянной архитектурной сценой — массивные классические ворота, через три арки которых можно увидеть три длинные улицы. Перспектива так блестяще построена, что, когда я пошел на сцену, чтобы получше все рассмотреть, оказалось, что улицы составляют в длину всего лишь несколько ярдов. Мне сказали, что, когда здесь идет спектакль и нужно на заднем плане создать видимость жизни, туда ставят маленьких детей, одетых как взрослые, потому что человек нормального роста разрушит эту иллюзию. Я обратил внимание на множество маленьких масляных ламп в глубине сцены. Когда их зажигают, возникает полное впечатление римской ночной улицы, залитой лунным светом.
Из многих палладианских вилл вокруг Виченцы вилла Альмерико, или Ротонда, — самая популярная, но я предпочитаю виллу Вальмарана, которую зовут еще вилла Карликов. Когда видишь стоящую посреди каменных сосен Ротонду, невольно улыбаешься, потому что она — прародительница многих английских домов. Раньше у нас было четыре ее копии, теперь остается вилла Берлингтона в Чизике, замок Мируорт и Фугскрэй, оба в Кенте.
Карлики виллы деи Нани — это садовые статуи, поставленные на ограду, их может видеть любой человек, идущий по дороге. Можно не сомневаться, что история, которую мне рассказали, пошла от крестьян. У одного богатого господина была единственная любимая дочь — карлица. Для того чтобы она не знала, что с ней что-то не так, к ней не допускали ни одного человека нормального роста. Однажды мимо проезжал красивый принц, в результате бедная девушка покончила жизнь самоубийством.
На этой вилле мне понравились очаровательные фрески работы Тьеполо и его сына. Конюшни, пусть и загруженные тачками, клетками для кур и тому подобными предметами, очаровали меня своим ренессансным обликом. Лошадиные кормушки сделаны из веронского мрамора, вешала для сена — из кованого железа. Каждые ясли отделены от соседних перегородкой, заканчивающейся колонной, увенчанной скульптурой. Конюшни огромной виллы Пизани в Стра почти такого же дизайна. Их можно увидеть в красивой книге Джор-джины Мэссон «Итальянские виллы и дворцы».
Виченцу и Падую разделяют менее двадцати миль. По дороге я, за исключением одной палладианский виллы, ничего не увидел. Подъезжая к Падуе, я думал, бывал ли когда-нибудь Шекспир в Италии. Некоторые полагают, что во времена Тюдоров он легко мог узнать все интимные подробности итальянской жизни за кружкой вина в любом лондонском кабачке. Другие считают, что Италию он знал не понаслышке. Профессор Эрнесто Грилло придерживался мнения, что Шекспир основательно знал страну; профессор Литтон Селлс предполагает, что, когда в 1592—1594 гг. лондонские театры из-за чумы закрылись, Шекспир вполне мог приехать на корабле в Венецию и посетить Падую, Виченцу и Верону. «В своем воображении он любил гулять по Венето, предпочитая ее любой другой части Италии, — пишет профессор, — и в семи его пьесах, если не больше, действие происходит в этой местности».
6
Отель в Падуе большой, внушительный и старомодный. Лифты из красного дерева медленно поднимаются к огромным спальням. Из своего номера я смотрел вниз. Прямо под окном — остановка, к которой то и дело подруливают автобусы, выгружая пассажиров. Далее высится элегантное как греческий храм здание. В итальянскую историю оно вошло как ночное кафе «Педроччи», место встреч патриотов Рисорджименто. Кафе, как мне скоро довелось узнать, специализируется на сабайоне.
Как сладостно слово «Падуя» отзывается в ушах англичанина! Шекспировская строптивая — это Катерина Морони, известная в Падуе своим острым языком. Действие пьесы «Укрощение строптивой» происходит именно здесь. Из того же города Порция и Нерисса спешат в Венецию под видом падуанского юриста и писца, его помощника, чтобы проклясть и посрамить Шейлока. Вспомните, как тесно связан этот город с елизаветинской Англией: ведь целые поколения студентов-медиков уезжали в «прекрасную Падую, колыбель искусств», желая получить там самый престижный европейский диплом.
Это людный, сбивающий с толку и восхитительный город. Возможно, это самый старый город в Италии. Стены и бастионы протянулись на большое расстояние, но направление их можно проследить, в то время как ручей или канал, трудно сказать, что это такое на самом деле, причудливо извивается, так что когда идешь по мосту, кажется, что ты в Венеции. Людные улицы в центре города относят к периоду Средневековья, но их прямоугольная форма напоминает о том, что на ом месте был древнеримский город — тот, в котором, как говорят, родился Ливии. Более знаменитым, однако, в Падуе считается святой Антоний, чья могила находится в этом городе. Один старик сказал мне, что Антоний и на небесах самый работящий святой, надо лишь обратиться к нему в нужный момент.
Первое, на что я обратил внимание, это — методика обслуживания автобусных экскурсий. Автобусы, рыча, въезжают в Падую и останавливаются у капеллы дели Скровенья. Пока пассажиры входят в часовню, водители разворачивают автобусы и готовятся увезти других путешественников, что вышли на улицу. Ни минуты простоя. Как замечательно, когда тебя быстро доставляют с одного места в другое, а тебе ничего не надо делать: сиди себе, откинувшись на мягкую подушку! Только великие лорды и миллионеры могли когда-то позволить себе путешествовать с таким комфортом.
Неподалеку пригорюнилась церковь Августина. Пригорюнилась, потому что нет в ней больше знаменитых фресок Мантеньи. В последнюю войну молодой человек в небе над Падуей сбросил бомбу, и, подчинившись закону гравитации, она упала на церковь и уничтожила работу Мантеньи. В этот трагический момент Италия понесла самую страшную потерю в области искусства. И все же каким-то чудесным образом стоящая рядом капелла не пострадала. Если бы бомба попала в это здание, потеря была бы еще ужаснее.
Часовня построена в 1305 году сыном ростовщика Ринальдо дели Скровенья, человеком, которого Данте поместил в ад, чтобы он с другими ростовщиками сидел там на раскаленном песке. В 1305 году в Англии царствовал король Эдуард I; римские папы пока еще не бежали в Авиньон; оставалось шестьдесят лет до рождения Чосера... так примерно старался я охватить взглядом это время. Об основателе этой часовни ничего не известно, кроме того, что он был богат и что нанял самого революционного художника того времени расписывать интерьер — уродливого маленького гения Джотто.
Каждый дюйм здания покрыт фресками. Сводчатый потолок — это синее небо, усыпанное золотыми звездами, а на стенах более тридцати самых известных картин: сцены из жизни Христа и Пресвятой Девы Марии. Хотя в любой книге по искусству вы сможете увидеть эти иллюстрации, даже самые лучшие репродукции не могут дать полного представления об оригиналах. В часовне вы видите их не как отдельные картины, а как серию картин, размещенных в правильном порядке. Цветовая гамма потрясающая, хотя, должно быть, время от времени к фрескам прикасалась кисть реставратора. Сикстинская капелла дает такое же ощущение, выраженное в цвете, большей частью синем. Не так просто современному человеку, в распоряжении которого книги, изданные за несколько веков, представить себе эффект, производимый фресками Джотто на своих современников, людей, не умевших читать. Этот Новый Завет в картинах сделал больше, чем рассказал историю. К тому же он и рассказал ее по-новому. Возможно, многие тогда были шокированы: как можно снять Христа и Пресвятую Деву с византийского неба и поместить их в обыкновенный повседневный мир? Их реакцию можно сравнить, видимо, с реакцией зрителей, впервые увидевших кинофильм.
Джотто был крестьянином, жившим в долине неподалеку от Флоренции, давшей стране Медичи. Современники Джотто, как истинные итальянцы, поражались уродству художника. Рассказывают, что друг Джотто, Данте, сидел иногда с ним в часовне, наблюдая за тем, как художник быстро переносит свои картины на мокрую штукатурку. Поэт думал: как странно, что человек, умеющий создавать такую красоту, произвел на свет шестерых детей, и все до одного оказались такими же уродливыми, как отец.
С наступлением темноты кварталы Падуи возвращаются в XVI век. Многие англичане узнают улицы с колоннами, где в юности они снимали жилье. Англичане и шотландцы приезжали в местный университет учиться и организовывали свою англоязычную группу. Такие группы, в зависимости от языка, назывались нации. Отсюда недалеко до Венеции, и студенты ездили туда по праздникам и приветствовали прибытие нового английского посла, пили за его здоровье, а после на пьяцца Святого Марка случались драки, и праздник заканчивался в полицейском участке. В самой Падуе национальное соперничество приводило к спорам, которые иногда заканчивались трагически.
Иногда отвагу студентов-медиков распаляло присутствие в городе солдат. Такая взрывоопасная ситуация была описана Джоном Ивлином, учившимся в Падуе зимой 1645 года. «Я вернулся в Падую, — писал он, — когда город наводнили солдаты. Они вламывались ночью в дома, иногда совершали убийства, даже монахинь, что живут неподалеку, побеспокоили. Мы вынуждены были принять меры предосторожности: вооружились пистолетами и другим огнестрельным оружием, чтобы защитить свои комнаты. Студенты и сами по вечерам выходили на улицу и останавливали всякого, кто шел мимо их дома. По вечерам, когда становится темно, на улицах очень опасно. Трудно что-нибудь сделать, когда в одном месте так много людей разных национальностей».
7
Старое здание университета я нашел в центре Падуи, всего лишь в нескольких шагах от моей гостиницы. Сейчас здесь находится администрация современного университета, сами факультеты разбросаны по всему городу. Я увидел внушительный двор эпохи позднего Ренессанса. Мраморные ступени привели в комнаты, стены которых покрыты были именами и гербами студентов всех национальностей. Я остановился в Большом зале — здесь до сих пор вручают иногда дипломы — и смотрел на надписи, обращая внимание на имена соотечественников — англичан и шотландцев.
По университету меня любезно водил один из профессоров. Он рассказал, что самое раннее упоминание, сохранившееся об английском студенте, это упоминание о Хью Ивсхэме. Он стал потом врачом римского папы Мартина IV, а потом, в 1281 году, его назначили кардиналом. В списке здешних английских студентов встречаются громкие имена, такие как Роберт Флеминг (1447), основатель Линкольн-Колледжа, Джон Типтофт (1460), просвещенный, но пользовавшийся дурной славой Джон Фри, граф Вустер, и оксфордский реформатор Томас Линакр.
Мы вошли в зал, называющийся «Зал сорока». Стены его украшают портреты сорока выдающихся студентов. Большой интерес вызывает старинный стол, за которым в течение восемнадцати лет читал студентам лекции Галилей. Сделан он из грубых деревянных планок и больше похож на кафедру, чем на стол. Возможно, Галилею он достался по наследству от какого-то средневекового преподавателя. Стол этот весьма обшарпан.
«Карьера Галилея, — сказал профессор, — не была триумфальной до тех пор, пока он не вступил в конфликт с церковью, однако оплачивали его работу хорошо. Иногда две тысячи людей требовали, чтобы он читал им лекции. Среди них было много выдающихся ученых, которые приезжали изо всех частей Европы, лишь бы только его послушать». В Падуе он изготовил первый свой телескоп, который давал лишь трехкратное увеличение, однако он продолжал экспериментировать с линзами и, наконец, смог изготовить приборы, увеличивавшие в тридцать два раза. С помощью таких скромных средств он впервые увидел спутники Юпитера и разглядел звезды Млечного Пути.
Я снова обратился к портретам на стене и увидел среди знаменитостей несколько английских ученых. Первым был Томас Линакер, которому выпала неприятная судьба — быть врачом Генриха VIII, впрочем, была в его жизни и отдушина: он учил латыни принцессу Марию. Затем я обратил внимание на портрет Фрэнсиса Уолсингема, главы елизаветинского разведывательного управления. Был здесь и портрет Уильяма Гарвея, и, как ни странно в такой компании, портрет Джона Рутвена Гаури, шотландского заговорщика. Больше всего, однако, удивил меня портрет Оливера Голдсмита, в чью академическую карьеру я никак не мог поверить. Тем не менее Падуя утверждает, что он был ее студентом. Впоследствии я заглянул в университетские архивы, а потому подозреваю, что имелся в виду другой человек. 13 декабря 1755 года докторская степень в области философии и медицины была присвоена «Господину Гулиелмо Оливеру, сыну господина Гулиелми». Вряд ли приведенное здесь имя соответствует фамилии Голдсмита!
Мы вошли в комнату, подготовленную для устного экзамена. Одинокий стул поставлен был против инквизиторского ряда кресел. В поле зрения кандидата был также стеклянный шкаф, содержащий восемь человеческих черепов.
— Это черепа профессоров, оставивших свои тела для анатомического театра, — объяснил мой гид.
Видеть одновременно и живых, и мертвых профессоров... Такая академическая шутка мне не слишком понравилась. Мы спустились на несколько ступенек и подошли к двери, возле которой профессор остановился.
— Сейчас вы увидите, — сказал он, — самый старый анатомический театр в мире. Построен он был в 1594 году для Фабриция из Аквапенденте. С ним учился ваш великий Уильям Гарвей, и в его доме он жил.
Мы вошли в мрачное помещение XVI века. Круглый лекционный зал или театр. Стены облицованы светлым деревом, что-то вроде сосны. Шесть ярусов способны вместить двести студентов. Сидений нет. Студенты должны были стоять, опираясь на балюстрады, и смотреть вниз на центральный круг с анатомическим столом. В полу было прямоугольное отвестие площадью примерно семь на восемь футов, и через него я увидел подвал. Я спросил у профессора, для чего это. «Средневековое предубеждение против вскрытия человеческого тела существовало еще и при Ренессансе, — пояснил профессор, — и иногда было желательно, даже в Падуе, наименее теологическом из всех университетов, быстро скрыть доказательства вскрытия трупа. Анатом подавал знак, и стол опускали в подвал. Трупы принадлежали обычно казненным преступникам. Ночью их срезали с веревки и поспешно отвозили в анатомический театр. Вот потому-то так много лекций
проходило при свете свечей. Иногда по обе стороны стола стояли двое человек с зажженными факелами. Они направляли свет в то место, которое указывал им профессор».
Мой гид рассказал мне, что одной из причин популярности медицинской школы в Падуе была та, что лекции по анатомии, сопровождавшиеся практическими занятиями, проходили здесь чаще, чем где-либо еще в Европе. В Париже, к примеру, в XVI веке разрешалось вскрывать только два трупа в год. Такая «анатомия» вряд ли приносила студентам пользу. Лектор, сидя на высоком троне, указывал белой тростью, а брадобрей расчленял труп преступника. В Падуе анатомическая наука развивалась благодаря первому из великих анатомов — Везалию. Тот сумел убедить местные власти не предавать преступников четвертованию. Студенты могли не только посещать лекции и наблюдать за работой великих анатомов, но и покупать точные «таблицы» вен и артерий, как те, что имеются в Британском музее. Ивлин привез их домой из Падуи и презентовал Королевскому обществу.
Не было среди студентов более преданного хирургии человека, чем Уильям Гарвей. Первые соображения относительно циркуляции крови возникли у него, когда он, перегнувшись через балюстраду, следил за действиями анатома в Падуе. Говорят, когда умер попугай его жены, он тут же положил птицу на операционный стол и через минуту доказал, что тот всю свою жизнь притворялся самцом! Другой необычный случай из его практики. Яков I попросил его высказать мнение относительно женщины, которая, по его подозрениям, была ведьмой. Старуха жила одиноко, в доме на отшибе. Она не признавалась в своих сверхъестественных способностях, пока Гарвей не сказал ей, что он и сам волшебник. Воодушевившись, старая дама пообещала показать ему ее домашнего духа. Пощелкав языком, она поставила на пол блюдце с молоком. Из-под дубового сундука выскочила жаба, Гарвей отослал старуху за кувшином эля и, пока ее не было в комнате, он — как способный ученик Фабриция — успел разрезать жабу и сделал вывод: «Она совершенно ничем не отличается от себе подобных». Естественно, старая женщина была недовольна тем, что так обошлись с ее питомицей, но она не знала, что та операция, возможно, спасла ее саму от сожжения.
«Уильям Гарвей жил в доме Фабриция Аквапенденте, — сказал профессор, — вполне вероятно, что начало его мыслям о циркуляции крови дало предположение хозяина о том, что аортериальные клапаны открываются к сердцу».
Забравшись на ярусы, я постарался представить себе лица студентов, выхваченные из темноты светом факелов. Сцена была, вероятно, еще более драматическая, чем на картинах Рембрандта. У студентов, приехавших сюда учиться из шекспировской Англии, не было ни обезболивающих, ни микроскопов. Знаний о микробах и инфекции у них было меньше, чем у нынешних десятилетних детей. Тем не менее, когда они вернулись, то с пилами и щупами они стали самыми профессиональными практиками своего времени.
8
Рано утром, в отсутствие мотоциклистов, в городе царит блаженная тишина. Солнце светит на спокойные площади и пустынные колоннады. Единственный признак жизни — это несколько фигур, спешащих к ранней мессе. Как и в большинстве городов Северной Италии, Падую лучше всего исследовать до завтрака. Вы увидите здесь все, что собирались посмотреть: статуи Петрарки и Мадзини, улицу Данте, улицу Мандзони; площадь Гарибальди, а также, что намного оригинальнее, улицу Фаллопия — в знак уважения к анатому. Улица виа дель Санто ведет к базилике Святого Антония, самой популярной церкви в Италии среди паломников. Вам скажут, что Падуя — это город:
Святого без имени, Поляны без травы, Кофейного дома без дверей.
Эти загадочные строчки обращены к святому Антонию, которого в Падуе никогда не называют по имени, а просто говорят: «Святой». Под словами «поляна без травы» понимают огромную площадь — Прато делла Балле. Площадь так похожа на гравюру XVII века, что вам кажется — вот-вот по ней промарширует отряд гренадеров с оркестром и негром-цимбалистом. Кофейный дом без дверей — это кафе Педрокки, которое когда-то было открыто всю ночь. Возможно, кому-то захочется добавить к этим строчкам «кота верхом на лошади», тогда слова эти будут означать конную статую работы Донателло Эразма да Нарни, великого венецианского полководца, известного всем под именем Гаттамелата.
Первым в любом итальянском городе просыпается район, связанный со Средними веками длинной плетью лука, — пьяцца делле Эрбе. В Падуе есть также и пьяцца деи Фрутти. Обе они находятся в тени огромной городской ратуши, нависающей над городом, словно старый галеон над набережной. Любопытно понаблюдать, как прибывают торговцы на мотороллерах, мотоциклах, микроавтобусах и даже на мотоциклах с самодельными прицепами, нагруженными салатом-латуком, капустой, баклажанами, дынями, помидорами и прочим, что выращивают они на теплой итальянской земле.
Не успеешь и глазом моргнуть, как прилавки уже поставлены, развернуты парусиновые разноцветные навесы, и рынок готов к встрече с первыми покупателями. В это же время открываются и двери булочных, мясных и рыбных лавок. Все они сгруппированы на палаццо делла Раджоне. Думаю, если бы заглянули сейчас сюда Данте и Джотто, то не увидели бы больших перемен.
В просторном зале здания, что находится рядом с рынком, я обнаружил отличную деревянную лошадь — похоже, она сохранилась со времен Ренессанса, и две скульптуры египетских богинь-кошек, подарок от сына Падуи, гиганта Джованни Бельцони. Я рано попал под его очарование и часто думал, почему его удивительные приключения среди гробниц и египетских пирамид в то время, когда никто еще не мог прочесть древних египетских иероглифов, ни разу не переиздали. Он был привлекательным добродушным гигантом, ростом шесть футов и шесть дюймов. В Лондоне на Варфоломеевской ярмарке он потешал публику. Было это во время правления Георга III. Бельцони представлял Геркулеса: надевал на себя шкуру пантеры и устраивал демонстрацию силы. Он и жену нашел себе под стать — крупную амазонку. Вместе с миссис Бельцони они отправились в Египет — продавать гидравлические насосы местным пашам. Падуанский Геркулес учился инженерному делу в Италии. Когда понадобилось поднять колоссальный гранитный бюст Рамзеса II, чтобы переправить его в Британский музей, пригласили Бельцони. Возможно, это обстоятельство и вызвало у него желание исследовать гробницы и храмы на берегах Нила. Это он впервые совершил раскопки в Абу-Симбел, ныне там поработали вандалы. Он первым из европейцев проник в пирамиду, в помещение, где находились мумии. Хотя Бельцони и не был ученым, он стал одним из величайших путешественников по Ближнему Востоку. Его «Повесть», изданная в большом формате с цветными изображениями усыпальниц, нарисованными и раскрашенными им самим, — самая увлекательная ранняя работа такого жанра, что вышла в Англии. В Падуе до сих пор вспоминают: когда знаменитый путешественник вернулся в Падую, он привез в дар родному городу две скульптуры богинь-кошек. Тогда в его честь была отлита золотая медаль. Пять лет спустя очаровательный гигант умер по дороге в Тимбукту.
Я отправился в ботанический сад. Там можно посидеть в тени деревьев, высаженных еще в XVI веке. В центре сада можно заметить круглый старый Аптекарский сад. Он был открыт в 1545 году, и Томас Кориэт впервые попробовал там фисташки и решил, что они «намного вкуснее абрикосов». Сад этот считается первым научным ботаническим садом Европы.
Я не стал бы преувеличивать, утверждая, что Англия оказала большое влияние на Падую, хотя, проходя по улицам, вы часто вспоминаете то или иное английское имя. Несостоявшийся король Англии во время политического изгнания умер здесь от лихорадки. Это был Эдуард Кортни, граф Девоншир, которого многие хотели видеть на троне с Елизаветой Тюдор. Если бы он не умер за два года до того, как она стала королевой, кто знает, как бы пошло историческое развитие? Могилу его в Падуе Кориэт видел, а я так ее и не нашел.
Умер в Падуе и коллекционер Томас Говард, граф Арундельский. Его, как и многих других, повлекло за границу, он осел в Падуе, здесь же в бедности и скончался. Ивлин видел его на смертном одре. «Я ушел от него, когда он лежал, — писал он, — оставил его в кровати, заливавшегося слезами. Этот человек вспоминал обо всех ударах, которые свалились на его семью. Особенно огорчало его непослушание внука Филиппа, ставшего доминиканским монахом, и несчастье его страны, втянувшейся в гражданскую войну».
Еще одним англичанином, умершим в Падуе, был эксцентричный сын леди Мэри Уортли Монтегю — Эдвард. Необычная ситуация — ненависть матери к собственному сыну. Возможно, она видела в нем пародию на саму себя. Я не сомневаюсь в том, что он был сумасшедшим. Он ехал в Англию одетым, как турок. В Падуе во время трапезы в горле у него застряла рыбная кость. Она и стала причиной его смерти.
Несмотря на то что он, как говорят, принял мусульманство, добрые монахи-августинцы похоронили его на территории монастыря.
Паломники молятся у могилы святого Антония из Падуи вот уже семь столетий. Как и его друг, святой Франциск Ассизский, святой Антоний был человеком с очень нежным сердцем. Великий проповедник и утешитель, покровитель путешественников. Как и святого Христофора, его изображают с Христом-младенцем на руках, потому что видели, как во время молитвы он держит перед собой осиянного младенца Иисуса.
У церкви его имени необычный, экзотический вид. У здания есть башни, похожие на минареты, а потому она напоминает мечеть. Кстати, святой Антоний — испанец, родился он в Лиссабоне. Он направлялся на мусульманский Восток, когда корабль разбился у берегов Италии. Читатели «Цветочков» вспомнят, что святой Антоний молился рыбам. Начинал он свое к ним обращение в настоящей францисканской манере со слов: «Братья мои, рыбы...» Когда он говорил, рыбы «поднимали головы над водой и внимательно его слушали, совершенно при этом не двигаясь», а когда он возносил хвалу их Создателю, который сохранил их одних во время Потопа, «начинали открывать рты и кивать головами, как бы давая понять, что они благодарны Богу».
Могилу святого я нашел в молельне позади алтаря. Мимо нее бесконечной вереницей шли люди, произнося шепотом какие-то слова, прикасались к мрамору пальцами или проводили по нему носовыми платками, желая унести с собой частицу святости. Когда Кориэт был здесь, он видел «некоего одержимого бесом человека». Его привели к святому в надежде изгнать из больного дьявола. К сожалению, экзорцизма не получилось. «Я оставил человека, — пишет Кориэт, — в таком же плохом состоянии, в каком увидел его вначале».
Мне говорили, что в Италии проводили референдум относительно двух самых популярных святых. Назвали святого Франциска Ассизского и святого Антония Падуанского. Хорошую историю о культе святого Антония рассказал Бернард Уолл в книге «Итальянская жизнь и ландшафт».
«Умирала упрямая крестьянка, и священник очень хотел, чтобы в этот великий момент душа ее предстала перед Богом. "Но я не верю в Бога", — сказала старуха. Священник был озадачен. Затем подумал немного и сказал: "Но каждый человек во что-нибудь да верит. Невозможно ни во что не верить. Разве ты не веришь в Мадонну и святого Джузеппе?" — "Нет, — сказала старая женщина. — Это все поповская болтовня". Священник отчаянно искал соломинку, за которую можно было бы ухватиться. "Но подумай, — сказал он, — ты ведь умираешь, что случится с твоей душой, если ты ни во что не веришь?" Женщина крепко задумалась. Затем лицо ее просветлело. "Ну, конечно. Верю в святого Антония"».
Бронзовый кондотьер, великий Гаттамелата, по воле своего создателя Донателло, оседлал возле церкви коня. Всадник — со шпорами длиною в двенадцать дюймов — похож на милосердного Цезаря. Он стал первым из бронзовых наездников со времен Древнего Рима, с него началась бесконечная кавалькада императоров, королей, принцев, герцогов и генералов, скачущих на лучших площадях мира.
Донателло и его работы привели Падую в восторг. Власти пытались уговорить скульптора остаться в их городе, но он ответил отказом. Он должен вернуться в свою родную Флоренцию, иначе забудет все, чему его учили. «В Падуе, — сказал он, — все, что он делает, вызывает похвалу, а во Флоренции его постоянно критикуют». Больше всего мне нравится рассказ о том, что, когда Донателло состарился, преданные ему Медичи подарили скульптору ферму, и Донателло в восторге отправился в поместье. На следующий год он умолял Медичи взять их подарок назад: лучше он умрет от голода, чем от беспокойства.
9
В нескольких милях от Падуи вы увидите миниатюрную Швейцарию — землю отшельников и драконов. Эти причудливой формы вулканические вершины, Эвганейские холмы, кажутся выше, чем они есть на самом деле, потому что без какого-либо предупреждения вырастают из плоской равнины.
У подножия холмов раскинулся бальнеологический курорт Абано, там цезари лечили свою подагру. Курорт этот до сих пор популярен, современные его обитатели, завернувшись в банные полотенца, по-прежнему мучаются от артрита проконсулов, хромавших здесь много столетий назад. За инвалидами заботливо ухаживают в красивых отелях. Они лежат в радиоактивной грязи, ощущая, как она выкачивает из них ревматизм. В парке я увидел симпатичную статую Гигиен. Богиня стоит над клумбой из красных цветов и бассейном с голубой водой, над которой поднимается пар. Разогревают воду таинственные печи, которые в отдаленном прошлом подняли из земли Эвганейские холмы. Вода оказалась настолько горячей, что я не мог удержать в ней руку.
Мне припомнилась книга Айрис Ориго «Последняя привязанность». В ней описан роман Байрона и графини Терезы Гвиччиоли. Охладеть они друг к другу не успели: Байрон умер в Греции. По крайней мере, никто не может сказать, что проживи поэт дольше, и любовь его угасла бы. Вполне возможно, что они бы даже и поженились. В первую стадию их романа Байрон, чье презрение к платонической любви Петрарки было известно, позволил молодой женщине взять его с собой в романтическое паломничество к дому Петрарки на Эвганейских холмах. Здесь они оба расписались в книге для посетителей. Я заинтересовался, существует ли до сих пор эта книга, и подумал, что интересно было бы поехать в музей и увидеть ту самую страницу.
Не успел я съехать с главной дороги, как оказался в лабиринте переулков и многочисленных дорог, по которым ехали телеги. Я понял, что оставил современную Италию позади. Бывает, что тебе приходится проезжать по небольшим местечкам, таким как Эвганейские холмы. То ли дорожные строители проглядели их, то ли по какой-то другой причине, но на таких участках остались примитивные тропы, и добраться до нужного тебе места труднее, чем до действительно удаленных уголков мира. Не один раз пришлось мне съезжать на обочину, чтобы дать проехать телегам с впряженными в них белыми волами. Я повернул за угол, и мне показалось, что я где-то в Гемпшире: я увидел двух крепких девушек, поднимавшихся в гору с деревянными коромыслами на плечах, несущих полные ведра воды. Они напомнили мне двух доярок, сбежавших в Италию из романа «Крики Лондона». Деревни прилепились к вулканическим склонам посреди виноградников, которые предпочитают такой тип почвы. Вся эта территория, казалось, живет в прошлом веке.
Арква — маленькая деревня с церковью, стоящей на нижней террасе, винным магазином, забравшимся чуть повыше; на самом же верху стоит дом, который построил Петрарка. Он поселился там в 1369 году, когда ему исполнилось шестьдесят четыре года. Со здоровьем у него было неважно, и ему хотелось уйти от беспокойной жизни Падуи в тихую деревню, где он мог бы читать книги и писать, если бы пришла такая охота, — это мечта писателей всех времен. Человеком он был добросердечным, зависевшим от друзей, но они все поумирали и оставили поэта печальным и одиноким. Последним большим его другом был Боккаччо, Петрарка писал ему из Арквы, рассказывал о спокойной своей жизни и мечтал, чтобы смерть пришла к нему, когда он будет сидеть за книгой или сочинением стихов. Мечта его осуществилась: утром, в день семидесятилетия поэта, его нашли мертвым. Поэт сидел за открытой книгой.
Окна смотрят на холмы и виноградники. Домик небольшой, но каменный. Просторная передняя, потолок покрашен и разделен на резные панели. Над дверью, в стеклянной витрине, сидит полная достоинства бальзамированная кошка. Длинный текст на латинском языке объясняет, что Петрарка был чрезвычайно привязан к животному и называл его второй Лаурой! В доме есть плохие фрески. Старая дама, что показывала дом посетителям, сказала, что фрески эти — современники поэта. Я увидел стул Петрарки, красивую чернильницу и комнату, в которой он был найден мертвым. Реликвии показались мне трогательными, но не близкими Петрарке. Другое дело — маленький сад с гранатовыми деревьями: там он, должно быть, часто гулял, смотрел вниз на долину и вспоминал прошлое.
Когда я спросил о книге посетителей, смотрительница провела меня в переднюю и показала стеклянную витрину с разными предметами, среди которых находилась и книга посетителей. Но я так и не смог упросить ее открыть витрину, а потому и не видел страницу, на которой были запечатлены имена Байрона и Терезы.
Я спустился к церкви, думая о сцене, описанной Айрис Ориго. Было это в 1819 году, в пору ранней стадии их любви. Они ехали из Падуи в Венецию и вели себя — как им казалось — осторожно. Тереза путешествовала в мужниной карете, запряженной шестеркой лошадей, вместе со служанкой и лакеем. Байрон ехал следом в огромном экипаже, сделанном по типу кареты Наполеона. В экипаже стояла его кровать, книжный шкаф и большой набор серебра, фарфора и белья. Дорога эта даже и сегодня нелегкая, а тогда была такой трудной, что форейторы отказались следовать до конца. Поэтому влюбленные закончили свое паломничество пешком.
Байрона, вообще-то, бесила привычка Терезы читать стихи по любому поводу, но сначала он был настолько влюблен, что с удовольствием слушал стихи Петрарки, которые его любимая читала, когда они приближались к дому поэта.
Они обнаружили, что дом наполовину разрушен, а на полу первого этажа разбросаны предметы домашнего обихода, кувшины с пшеницей, только мумифицированная кошка стояла на месте в своем футляре. «Байрон отпустил по этому поводу характерное для него замечание, — пишет Айрис Ориго, — сердца животных часто лучше человеческих, и привязанность этого животного посрамляет холодность Лауры». Они спустились по дороге к церкви и увидели рядом со зданием мраморный саркофаг, установленный на четырех низких мраморных колоннах, — могилу Петрарки. Дети принесли им виноград и персики, и Байрон, который обычно не любил смотреть на жующих женщин, заметил, что он впервые видел Терезу за едой, и зрелище это оказалось «исполнением его мечты». Возможно, что потомки тех самых детей принесли мне маленькие букетики цветов, а я подарил им конфеты.
Петрарка и Лаура... Байрон и Тереза... Святая и светская любовь. Посещение дома оказалось интересным, но глупо все же прятать под замком книгу посетителей и держать ее открытой под стеклом не на той странице.
Выбравшись на главную дорогу, я вскоре оказался в городе Эсте. Семья жила там, прежде чем закрепиться в Ферраре. То, что издалека казалось огромным средневековым замком, не более чем стена. Никогда воинственный внешний вид не был более обманчив. Стена окружает городской сад, где когда-то собирались тяжеловооруженные всадники и седлали боевых коней. Сейчас здесь высажены клумбы с шалфеем, петунией и георгинами. Дети играют в тени гигантских магнолий и кипарисов.
Вилла Капуцины, которую Байрон арендовал в течение двух лет, а затем отдал в наем Шелли, до сих пор находится здесь. В летнем доме в конце сада Шелли написал стихи об Эвганейских холмах и начал «Освобожденного Прометея». Табличка на площади гласит, что в этом городке Рим был провозглашен столицей объединенной Италии.
10
Утром я отправился в Венецию.
Двадцать семь миль автострады напоминали трек: автобусы, легковые автомобили, фургоны, мотоциклисты, велосипедисты неслись к королеве Адриатики, и я в полной мере осознал, что Верона, Виченца и Падуя составляли мирный треугольник в сердце тайфуна.
Улыбнулся, подумав, что начало всему положил баптистский миссионер и трезвенник Томас Кук. В 1841 году он взял с собой новообращенных из Лестера и отвез их в Лафборо на собрание общества трезвости. Оказалось, что путешествие это судьбоносное. Когда путешественники подходили в конце дня к своим железнодорожным вагонам, на всех главных станциях стоял человек от Кука, бывший чем-то средним между гидом и семейным советником. В 1860 году было принято смелое решение: расширить путешествие от Рамсгейта до континента. Путешествие перестало быть аристократическим, оно теперь было привилегией людей обеспеченных. Европейцам не слишком-то понравилось, когда материк наводнили гувернантки, клерки, члены профсоюзов и «молодые персоны» обоих полов. Такое их настроение выразил прозаик Чарльз Левер, ставший впоследствии британским послом в Специи.
«Города Италии, — писал он, — наводнены этими существами. Я только что встретил три стада, и таких неотесанных мне встречать еще не доводилось. Мужчины по большей части пожилые, мрачные; женщины, возможно, чуть-чуть помоложе, натерпевшиеся в дороге, помятые, но чрезвычайно живые и веселые». С типично ирландским злорадством Левер распространил среди влиятельных итальянцев слух о том, что туристы Кука — преступники, что британское правительство выпроводило их из страны и коварно подбросило Италии. Мы живем в такое время, когда все знают: нет такой лжи, которая после многократного повторения не станет правдой, поэтому можем понять мистера Кука. Ему пришлось пойти в Министерство иностранных дел и просить защиты.
Теперь на дорогах Венеции можно увидеть собственными глазами, как тот давний десант трезвенников превратился в универсальный бизнес, в котором каждая нация хочет получить свою долю. Ни одно иностранное государство, каким бы богатым оно ни было, не откажется от иностранной валюты, которую оставляют в стране туристы, большинство правительств нанимают профессиональных сирен, заманивающих путешественника в свои магазины. Тут тебе и реклама на огромных щитах, и брошюры с описанием достоинств страны, не таких, какие они есть на самом деле, а таких, какими надеется увидеть их турист. Рекламные щиты показывают идеальный мир, где всегда светит солнце, где люди пышут здоровьем, а девушки ходят в купальниках, все приветливо вам улыбаются, те же, кто не в купальнике, одеты в национальные костюмы прошлого столетия.
Трогательно, когда видишь, что, встречаясь с жадностью и корыстолюбием, люди продолжают верить в существование идеальной страны и каждый год платят деньги за новое путешествие. Надеюсь, какой-нибудь социальный историк отслеживает сейчас движение, ставшее чем-то вроде иерусалимского крестового похода, и как средневекового паломника можно было раньше узнать по подпоясанному веревкой одеянию, шляпе с широкими полями и посоху, так и современный мир, завидев мужчину, одетого как маленький мальчик, обжаренного на солнце и увешанного фотокамерами, тотчас узнает в нем туриста. Италия знала религиозных паломников давних веков, студентов эпохи Ренессанса, аристократов Большого путешествия, плутократов XIX века. Теперь она вступила в самую примечательную и выгодную фазу своей истории.
Думается, последняя фаза истории путешествий начинается с военных времен. Грузовики, доставлявшие вооруженных людей во все концы Европы, стали ныне удобными мирными автобусами. Офицеры, военнослужащие сержантского состава и переводчики переквалифицировались в гидов. Мне даже мерещится, будто замысловатую эту операцию контролируют из штаба менеджеры туристских агентств, командовавшие некогда моторизованными батальонами. Теперь, втыкая в карту цветные флажки, они задумывают инфильтрацию своих клиентов в картинные галереи и музеи Европы.
Метаморфозы постоянно о себе напоминают. Войска приучены были к внезапной атаке, в такой же точно манере автобусы выбрасывают туристов на итальянские площади. Появляется гид, как некогда командир, и руководит операцией, только вместо обвешанных оружием солдат в камуфляжной форме высаживается отряд, составленный из почтенных матрон, молодых девиц в узких брючках, мужчин в шортах, рубашках в гавайском стиле, с фотоаппаратами на шее и с выражением солдатского стоического терпения на лице. Не так уж трудно представить себе, как в поле зрения группы туристов попадает в качестве избавителя какое-то публичное здание. Ведомые жестикулирующим гидом, который, должно быть, призывает своих последователей к свершению героического поступка, туристы штурмуют ступени и завладевают лифтами, в то время как основная часть отряда, готовая вступить в схватку с Боттичелли, устремляется к главной лестнице вслед за матронами в брюках и девицами в сандалиях.
Автострада сменяется грунтовкой, протянувшейся на три мили у мелководной соленой лагуны, в которой, по словам поэтов, плавает Венеция, а по утверждениям геологов и инженеров — она тонет со скоростью одного ярда за каждые пятьсот лет. Где-то параллельно грунтовке под землей проходит водопроводная магистраль, по которой в Венецию качают свежую воду из колодцев, находящихся в пятнадцати милях от города. Еще восемьдесят лет назад свежую воду получали из очищенной дождевой воды, которую скапливали в огромных подземных цистернах, а девушки разносили ее потом ранним утром от двери к двери, как та пара, которую я видел на Эвганейских холмах. Электричество смело шагает в город по лагуне, передвигаясь от столба к столбу.
Грунтовка закончилась и превратилась в довольно уродливую итальянскую площадь, носящую высокопарное название пьяццале Рома. Это ужасное место, синее от выхлопных газов и дизельного дыма, заставлено припаркованными автобусами из всех частей Европы. Доминантной точкой является шестиэтажный гараж, самый большой в Италии. Здесь автомобилист может оставить свою машину, которая в городе ему уже не понадобится.
Я смотрел, как из трейлеров выгружают ящики с пивом, мешки с мукой и другие предметы, которые сначала доставили в Венецию на баржах, каждая баржа под охраной громогласной нечистокровной собаки. В одном из автобусов я заметил американских девушек-студенток в последней стадии Утомления; в другом — немцев из Гамбурга; третий автобус Доставил пассажиров из Брейфорда, Йоркшир; четвертый — из Осло; пятый — из Копенгагена; шестой — из Лиона, а два других — из Вены. И вдруг посреди сутолоки, выхлопов двигателя и клубов дыма на площадь въехала группа из ближайшего кемпинга. Жаль, что Чарльз Левер не смог увидеть шорты и рубашки, штаны «а-ля тореадор», вздувшиеся пузырями руки и плечи и радостные лица ребят, освободившихся на время от тирании индустриального мира.
Все столпились перед вапоретто — речным трамвайчиком. Носильщик сбросил мои чемоданы на палубу. Я спрыгнул вниз и уселся на них. Все смотрели в одном направлении, словно мусульмане, приветствующие восход солнца. Мы поплыли по Большому каналу.
|


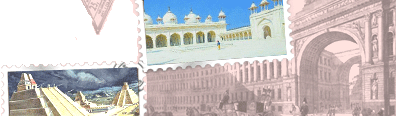

 Верона — город красного мрамора. — Римский амфитеатр. — Могила Джульетты. — Виченца. — Театр Палладио. — Падуя и ее университет. — Анатомический театр. —Английские студенты-медики. — Святой Антоний Падуанский. — Дорога в Венецию. С Эмилией-Романьей я распрощался. Переправившись на левый берег, оказался уже в области Венето. Дорога манила в Падую и Венецию, но я оказался одним из немногочисленных путешественников, которые сознательно выбрали другое направление — отправился на запад, в Верону.
Верона — город красного мрамора. — Римский амфитеатр. — Могила Джульетты. — Виченца. — Театр Палладио. — Падуя и ее университет. — Анатомический театр. —Английские студенты-медики. — Святой Антоний Падуанский. — Дорога в Венецию. С Эмилией-Романьей я распрощался. Переправившись на левый берег, оказался уже в области Венето. Дорога манила в Падую и Венецию, но я оказался одним из немногочисленных путешественников, которые сознательно выбрали другое направление — отправился на запад, в Верону.