философ Саймон Кричли о всплеске интереса к политической теологии — T&P
Автор книги «Вера неверующих» Саймон Кричли рассказывает о том, почему политическая теология играет столь важную роль в современной политике, каким образом она открывает участникам политических преобразований доступ к архиву возможностей, в чем причина живучести культа великих и что собой представляет на самом деле политический ландшафт наших дней.
— Существует мнение, будто нынешнее теологическое возрождение объясняется «скудостью теорий, а не нуждой в теологии» (Альберто Тоскано). Помимо катастрофы, постигшей коммунистические проекты минувшего столетия, существуют ли другие причины для нежданного, чтобы не сказать ошеломительного, всплеска интереса к политической теологии?
— Интерес к политической теологии произрастает из претензий к либерализму. Само это понятие, политическая теология, мы впервые встречаем у Бакунина. Изначально оно относилось к итальянской политической мысли середины девятнадцатого века, причем употреблено было в уничижительном смысле. В 1920-х Карл Шмитт подхватил его и придал несколько иную валентность, но использовал все против того же либерализма, каковой, правда, в отличие от Бакунина, атаковал справа, а не слева.
Потом было начало 1990-х, когда после крушения Варшавского договора и Советского Союза, большие надежды возлагались на освободительный потенциал демократии, но надежды эти быстро себя исчерпали. Сейчас происходит возврат к теологическим темам — это не столько обращение к коммунистическим идеям, сколько попытка на уровне глубинных мотивационных структур нащупать понимание того, что есть личность и объединение личностей. Тому, кого занимает эта проблематика, полезно обратиться к истории религиозной мысли — и даже, возможно, в первую очередь к ней.
Лично я никогда не был сугубо секулярным мыслителем, идеями секулярного модерна никогда особо не увлекался. Религиозные мыслители, такие как апостол Павел, Паскаль, Августин и многие другие всегда вызывали у меня огромный интерес. Я убежден: решив при философствовании или построении некой теории непременно обойтись без религии, вы лишаете себя доступа к фантастически полезному архиву возможностей. По-моему, философия без религии немыслима — без религии невозможно заниматься философией, равно как невозможно заниматься ею, опираясь на одну только религию. В этом смысле я отнюдь не теист. То есть, лучшие, яркие идеи, заимствованные в одной традиции, вполне применимы в рамках другой. Так, «Апостол Павел» Алена Бадью может служить ярчайшим примером того, как философ обращается к религиозному источнику для размышлений о политике.
Осмыслять природу политических форм — значит думать о них, как о различных формах сакрализации. С моей точки зрения, разнообразие политических форм — будь то фашизм, либеральная демократия или сталинизм — это разнообразие форм сакрального. Каждой политической формой нечто возводится в ранг святыни: государство, народ, раса или что-то другое. Поэтому, политическую историю я склонен рассматривать не как движение от сакрального к секулярному, а как последовательную смену представлений о сакральном.
Такой подход в моем случае крайне полезен как инструмент исследования, в частности, функционирования политических форм в США, стране моего нынешнего проживания. Здесь невероятно сильна политическая теология в облике американской гражданской религии, пользующейся огромным влиянием на граждан.
Политика, в моем представлении, это, грубо говоря, «объединение без представительства». Эту формулу я позаимствовал у Руссо. А понятие «объединения» для меня — религиозного порядка, хотя и не чисто религиозное. Религия — это от латинского religare, «связывать», «объединять». Что связывает людей в объединение, сообщество? Не над этим ли вопросом последнюю пару столетий бьется левая мысль? Поэтому религиозную традицию нельзя так просто взять и отбросить, объявить ненужной чушью. Это было бы глупостью, поступком во многих отношениях контрпродуктивным.
— Касаясь политической теологии, Терри Иглтон настаивает, что вера по сути перформативна, а не пропозициональна. Это соответствует тому, что вы пишите в своей книге о природе веры?
— Соображения Терри мне близки и обещают, видимо, стать еще ближе. Он начинал как радикальный католик, а сейчас превратился в марксиста. В каком-то смысле, он остался верен себе, так как по-прежнему критикует либеральную демократию и лежащую в ее основании секулярную теологию — права человека, свободу, ценность индивидуальности и так далее.
Вера, в моем представлении, не теистична. Она не предполагает обязательного верования в какую-то метафизическую сущность вроде Бога. Вера — это субъективное заявление, неразрывно связанное с тем, что я называю требованием. Она обращает к тебе некое требование, которое ты, как субъект этики или политики, можешь принять.
Некоторые люди, как я, например, курьезным образом являются неверующими, но имеют при этом опыт веры в отношении каких-то вечных требований — скажем, в отношении запрета убивать или необходимости равноправия между людьми. У других вера гарантируется присутствующей в их мировоззрении божественной реальностью. На мой взгляд, на субъективном уровне нет никакой разницы — веровать в Бога или нет. Попытки в ней разобраться только отвлекают от сути. Главное не то, во что ты веришь, а то, как поступаешь. Меня интересуют религиозные проекты, основанные на поступке, действии, практике — вроде того же американского «черного христианства».
Я согласен с Терри, что вера — явление скорее не пропозиционального, а перформативного плана. Веришь или нет в Рождество — не принципиально.
— Жан Люк Нанси в своей «Деконструкции христианства» из двух апостолов апеллирует скорее к Иакову, а не к Павлу. Слова Иакова о том, что «вера без дел мертва» для него гораздо важнее павловой хрупкости воли.
— Такой выбор делали и продолжают делать многие. Именно так верили французские янсенисты, которые были в семнадцатом веке гонимым религиозным меньшинством. Для них вера была действием в мире сем.
«Некоторые люди, как я, например, курьезным образом являются неверующими, но имеют при этом опыт веры в отношении каких-то вечных требований — скажем, в отношении запрета убивать или необходимости равноправия между людьми. У других вера гарантируется присутствующей в их мировоззрении божественной реальностью. На мой взгляд, на субъективном уровне нет никакой разницы — веровать в Бога или нет».
Надо различать веру как действие и веру как духовность. В наше время сформировалось целое учение о духовности — во всем разнообразии своих форм оно складывается в то, что можно обобщенно назвать нью-эйджем, религией «нового века». В этой религии духовность обращена вовнутрь, дабы каждый имел шанс отыскать внутри себя нечто священное или божественное, такое, что бы можно было культивировать среди ужаса и хаоса рассыпающегося на куски мира. В моем представлении, вера обращена вовне, а духовность — вовнутрь. Я писал об этом в эссе о Филиппе Дике и гностицизме, я утверждал в нем, что это и есть гностическое мировоззрение, когда мир видится дурным и никчемным, чем-то типа матрицы, фабрики грез, которой заправляют могущественные злодеи (у гностиков они назывались архонтами), но при этом каждый человек хранит в себе искру божественного.
По-моему, интерес представляют только формы духовности, предполагающие пассивное отрицание, устранение от мира, в котором все равно ничего нельзя изменить. Мне эти формы не близки, но понимать их необходимо — ведь в наиболее общей своей форме духовность не связана ни с какими верованиями. Поэтому-то столь открытым и доступным представляется буддизм — он вообще не требует во что-то веровать. С помощью каких-то буддистских практик можно заниматься самосовершенствованием или просто отдыхать, снимать напряжение. В такой реакции на хаос мироздания я не вижу ничего дурного. Пассивное отрицание окружающего мира имеет под собой основание, но только мне эта позиция кажется неправильной.
— В своей книге «Вера неверующих» вы цитируете слова Антонио Грамши: «Чтобы победить христианство, социализм должен превратиться в религию». Что это значит для политического движения или проекта — превратиться в религию? И почему такое превращение помогает добиться успеха?
— Превращение в религию важно для политического проекта, потому что позволяет привлечь на свою сторону даже тех, кто не извлекает из него непосредственную пользу для себя. Будучи религией, он побуждает людей поступать тем или иным образом. Религия, в моем представление, и есть то, что объединяет людей, побуждает их выступать единым фронтом.
Что до Грамши, то он всегда был мне более интересен, чем Маркс и большинство современных марксистов, традиционно переоценивающих роль социальной экономики. Разумеется, социально-экономические факторы исключительно важны, и глупо было бы это отрицать. Но в смысле политики следует больше внимания уделять единым фронтам, в которые объединяются для совместных действий носители самых разных интересов и убеждений — Грамши называет такие объединений «историческими блоками». Не оставлять в них места религии и верующим было бы неправильно. Во времена Грамши, он об этом много пишет, Католическая церковь была косной реакционной силой, но при этом можно было апеллировать к левым течениям в католицизме, с их помощью привлекать людей в свою общность. Эта общность — конструкция поэтическая или, в широком смысле, религиозная. Для ее создания требуется включить политическое воображение.
То, о чем я пишу в «Вере неверующих», связано с идеей, как я выражаюсь, «высшего вымысла». В мире, в котором мы живем сфера политики есть сфера вымысла. Именно к этой сфере Гоббс применяет понятия «искусственного тела» и «искусственной души». В этой сфере разоблачить вымысел — о народном суверенитете, о том, что жизнь народа находиться у него в руках, о том, что нет у нас никакой плутократии и олигархии —означает не перейти от вымысла к факту, а заменить просто вымысел неким высшим вымыслом, которому мы верим, хотя и понимаем, что это вымысел. Подобная замена — один из возможных способов сформулировать содержание разнообразных политических, поэтических и религиозных проектов.
Для успеха проекта важны две составляющие: условно романтическая и условно прагматическая. Романтическая — это идея «высшего вымысла»; прагматическая — понимание того, что массовые движения образуются не путем отбора участников и не посредством насаждения передовых идей, а тогда, когда создается объединение, к которому людям хочется примкнуть. Именно так на протяжении какого-то времени росло движение Окупай Уолл-стрит, что с ним происходит сейчас — вопрос открытый.
— Когда вопреки нашим желаниям реальность такова, что мир, скорее всего, так и будет оставаться капиталистическим и однополярным — может быть, в такой ситуации вера как политический ресурс необходима больше, чем знание?
— И то, и другое необходимо, но да — вера больше. Мне нравится формулировка, которая была в ходу у ситуационистов: «Будьте реалистами, требуйте невозможного». В определенном смысле, быть левым — что бы конкретно под этим ни понималось — означает существовать вопреки факту. Сила идеологии столь велика, что при существующих политических режимах всякого, кто говорит, что им возможна альтернатива, поднимают на смех. С этим ничего не поделаешь. В мире правит капитализм. Остается с этим смириться.
— Марк Фишер называет такое положение вещей капиталистическим реализмом.
— Альтернативы капитализму в данный момент нет. Это обстоятельство, хочешь не хочешь, следует признать и, соответственно ему, умерить свои запросы. В связи с этим, любой левый, эмансипаторский проект требует в наше время веры вопреки факту — контрфактуальной, утопической веры в то, что в возможен и другой способ мироустройства. В своей «Вере неверующих» я пишу еще и о нынешнем разнообразии утопических идей, о том, что утопическую традицию нельзя списывать со счетов как явление прошлого, курьез мысли или бессмыслицу.
«В определенном смысле, быть левым — что бы конкретно под этим ни понималось — означает существовать вопреки факту. Сила идеологии столь велика, что при существующих политических режимах всякого, кто говорит, что им возможна альтернатива, поднимают на смех. С этим ничего не поделаешь. В мире правит капитализм. Остается с этим смириться».
Что касается знания, то оно, конечно, необходимо — глупо было бы это отрицать, — но держится знание на вере. Это относится и к некоторым формам научного знания. По общепризнанному бредовому представлению, наука — это собрание знаний об устройстве вещей. Тогда как наука — это одна из форм веры. Наука держится на вере, при чем на той ее разновидности, которой противостоит не сомнение, а несомненность факта. Доводя эту мысль до крайности, можно сказать: то, что считается знанием в нынешних условиях, особым способом подогнано и структурировано, а любая альтернативная точка зрения объявляется чушью. Отстаивать альтернативную точку зрения в такой ситуации можно только с позиции веры.
— Ваша полемика со Славоем Жижеком в некоторой степени помогла прояснить разницу между двумя политическими позициями — анархической и авторитаристской. И те и другие, социалисты и анархисты, ставят целью уничтожение государства, но принципиально расходятся в вопросе о том, как это делать. Почему, как отмечет Габриель Кун, до сих пор велико непонятное обаяние культа «великих»: Ленина, Мао, Кастро?
— Хороший вопрос. Это все фантазии о политике, вершимой героями, о политике мачо. Они тревожат меня и вызывают отвращение. По-моему, единственная ценность нашей с Жижеком полемики, единственное, ради чего ее вообще стоило затевать, как раз в том и заключается, что мы обсудили отличия между авторитаризмом и анархизмом, указали на то, что в левом авторитаризме до сих пор жива ленинская тоска по вождям и героики политического насилия. Тоску эту я считаю неправильной, наивной и недалекой — носители ее напоминают мне подростков, которые, сидя взаперти, играя на компьютере и слушая хеви-металл, мечтают о грядущих катаклизмах.
Многие полагают, что арсенал левых ограничивается коммунизмом марксистского или ленинского толка. Между тем, существует длительная традиция анархизма — к ней принадлежат, среди прочих, Уильям Годвин, Бакунин, Кропоткин, Эррико Малатеста. Из многочисленных английских ее продолжателей, которые особенно мне интересны, назову, к примеру, Колина Уорда. Традиция эта не такая броская, гораздо менее героическая и эффектная. Ее зачинателями можно, видимо, считать диггеров, сажавших свою морковь в первые годы Английской революции. Занимать конфискованные общинные земли и выращивать на них овощи — где тут романтика? Штурм Зимнего дворца — вот это совсем другое дело. Но вся эта ностальгия по фаллократической, героической политике меня определенно не привлекает.
Возьмем в качестве примера движение Оккупай. В нем не было ни авторитарности, ни героики, ни мачизма, ни культа вождей. Оно представляло собой хорошо организованное объединение людей, движимых разными мотивами. В парке Цукотти первым делом бросалось в глаза то, насколько много здесь разных групп, как много совершенно разного народу. Каждый держал плакатик со своим собственным высказыванием — иногда, да, совершенно шизофреническим — и это было здорово! Так приблизительно и выглядит демократия. Сама идея, что революцию возглавит сплоченная, дисциплинированная группа лидеров, в наши дни, по-моему, смешна. С ее помощью левые лишь отталкивают от себя людей. И увековечивают свое романтическое поражение.
— Именно анархистские идеи — во всяком случае, ассоциирующиеся с анархизмом или декларируемые каким-то группами анархистов, — лежат в основе политических и общественных движений последних двадцати лет, таких как альтерглобализм и, позднее, Окупай Уолл-стрит. В отличие от марксистского учения анархическая традиция так и не была приручена и институализирована. Чем это объяснить? Не тем ли, что она лучше отвечает практике стихийных политических действий и проще адаптируется к разнообразным ситуациям, чем критикуемые вами марксистские «принципиальные абстракции» и «программная политическая деятельность»?
— Совершенно верно. Даже жаль, что эта формулировка принадлежит не мне, а вам. Да, анархизм заточен под практику, под действие, а если у него и есть слабая сторона, то это теория. Анархизм с подозрением относится к теоретизированию, не то что марксизм, начало которому положил солидный мыслитель с солидной бородой, создавший теорию всего на свете. Марксизм отлично вписывается в западное представление об учености, оттого-то в академических кругах так много марксистов, которые всегда неплохо с этого учения кормились. Анархизм же традиционно испытывал недоверие к теории и теоретическим обобщениям. Наверное, за последние 10 лет многое изменилось, и сейчас в университетах полно анархистов… Даже если их совсем немного — раньше-то совсем не было. Анархизм был уделом маргиналов. Теперь научное сообщество очень даже считается с людьми вроде Дэвида Грэбера, но у него с единомышленниками ушли многие годы на то, чтобы этого добиться.
Однако с сомнительным отношением анархизма к теории все не так просто. Да, вы правы: неприятие анархизмом принципиальных абстракций марксистского мировоззрения, по-моему, совершенно справедливо, а направленность его на практику исключительно полезна в смысле политической деятельности. Анархизм умеет видоизменяться в зависимости от ситуации, и эта его способность чрезвычайно важна. При всем при том, хочется порой, чтобы сторонники анархизма проявляли больше интереса к его теоретическим основам. Скажем, тот же весьма симпатичный мне Дэвид Гэрбер частенько касается таких классических тем, как свобода и общественное согласие, которые требуют более глубокого теоретического осмысления.
«Что касается знания, то оно, конечно, необходимо — глупо было бы это отрицать, — но держится знание на вере. Это относится и к некоторым формам научного знания. По общепризнанному бредовому представлению, наука — это собрание знаний об устройстве вещей. Тогда как наука — это одна из форм веры».
В книге «Требовать до бесконечности», как и в последней своей работе, я размышляю на те же темы, но иначе, пытаюсь заново осмыслить то, что сам нескольким годами раньше называл, в противоположность классическому либертарианскому анархизму, «бесконечно ответственным неоанархизмом». Я считаю, что по сравнению с 1960-ми, когда он сводился к идее раскрепощения, в частности, раскрепощения сексуального, анархизм претерпел большие изменения. Это хорошо видно на примере движения Оккупай Уолл-стрит. Его участники поразительно эффективно использовали средства, которые обычно вызывают насмешки, слывут дурацкими и никуда не годными. В парке Цукотти можно было наблюдать, как 400 человек проводили общую ассамблею — при этом они не пользовались микрофонами и никто ими не руководил. Это фантастическое зрелище. Действуя сообща и объединенные доброй волей, люди могут добиться очень и очень многого. В этом я с вами согласен.
А вот попытки подверстать Оккупай к коммунистической идеологии, по-моему, чистой воды недоразумение. Оккупай — это массовая, демократическая акция прямого действия.
Меня лично в движении Оккупай Уолл-стрит больше всего потрясло то, что люди прекрасно знают, что надо делать. Они вполне способны взять ситуацию в свои руки, наладить самоуправление. Цели Оккупая — и «арабской весны», разумеется, тоже — это цели социалистические в том смысле, чтобы заставить финансовый капитал поделиться властью с народом. Активисты «арабской весны» ставят вопрос о ренационализации, требуя вернуть народу то, что считают у него отобранным. Эта повестка — чисто социалистическая. А тактика, с помощью которой люди добиваются ее исполнения, анархическая, и теперь уже все видят, насколько эффективной она может быть. Следующая волна протестных действий обещает дать интересную пищу для размышлений. Что будет дальше? Я гадать не возьмусь.
— На фоне споров о возможности инструментализации государства идет все более бесцеремонная неолиберальная приватизация, которая приводит к «усыханию» государства и передачи его в руки все более узкого круга людей. Хотя неверно было бы отрицать существование государственной власти как таковой, а также политическую релевантность понятия национальное государство, гражданские активисты направляют свои усилия на противостояние финансовым институтам и корпорациям, на которые возлагают ответственность за нынешний экономический и экологический кризис. А по-вашему, что сейчас является территорией политики?
— Зигмунт Бауман предлагает представить себе такую картинку: вот люди с комфортом сидят в самолете, летят, куда им надо, читают книжки, смотрят кино; и тут им сообщают, что самолет летит без пилота, а еще через 10 минут — что аэропорт, в котором они ожидали приземлиться, не просто не принимает рейсы, а даже еще не построен, потому что строители не выправили разрешения, ну или по какой-то другой причине. Это аллегория нашего времени. Мы спокойно движемся куда-то, полагая, что никто наше движение не направляет, ведь политика и власть отделены одна от другой. Для начала, как мне кажется, это-то и надо понять, про отделенность политики от власти; мы же до сих пор уверены — не знаю, трусость это или романтический пережиток, — что власть принадлежит политике, и местом слияния политики и власти является государство. Нам по-прежнему хочется верить, что государство — настоящий хозяин положения, хотя все говорит о том, что это не так.
В связи с олигархизацией — не знаю, как еще назвать превращение либеральной демократии в плутократию, случившееся за последние тридцать-сорок лет багодаря Рейгану, Тэтчер и им подобным, — возникло и окрепло представление о том, что политика состоит на службе у власти и не несет никакой ответственности за политические решения. Как должное при этом принимается, что государство всего лишь обслуживает интересы капитала, который не имеет национальной привязки — он транснационален и ведет кочевое существование, при угрозе повышения налогов легко переносит производство из одного места в другое.
То есть, территория политики — это, первым делом, создание территории политики, и лозунгом тут может быть: «не бывает политики без локализации». Политика должна быть локализованной, привязанной к месту. Если говорить о США, о Нью-Йорке, где я живу, то самое неприятное во всей этой борьбе демократов с республиканцами — она никак не локализована. Тогда как происходящее, а парке Цукотти прочно привязано к месту. В парке образовалась территория сопротивления — территория сопротивления, развернувшегося вокруг весьма туманных и замечательно неисчерпаемых требований.
«Всю нынешнюю политическую систему я считаю ненужным излишеством, и чем скорее она прекратит существование, тем лучше. Последний год — я имею в виду «арабскую весну» и другие события — блистательно показал, что стоит перестать бояться, стоит массам заявить о себе в лицо правящему меньшинству, как у этого меньшинства не остается шансов».
Для меня, занятие политикой — это создание территории. Тому существует множество примеров — самый очевидный, наверно, это нынешние события в Европе. В частности, например, то, что сейчас происходит в Греции, где государство существует исключительно ради того, чтобы обслуживать интересы международных финансовых организаций и Евросоюза. По этой причине у Греции не осталось ни малейших оснований именоваться демократической страной.
Какова же цель политики? Ее цель — создать территорию. Анархизм, как известно, весьма положительно относится к федерализму. Анархизм отрицает государство не во имя хаоса, а во имя иначе организованного порядка, основанного на различных формах местной автономии. Мне бы очень хотелось видеть — и, по-моему, картина эта не такая уж нереалистичная, — как в ближайшие десять-двадцать лет все страны Евросоюза распадутся на части, и европейцы сумеют организовать федерацию самоуправляемых территорий.
Поскольку политики без конкретного места не бывает, цель ее — заполучить под свой контроль место, где живешь, мыслишь, работаешь и ешь. В этом и заключается создание территории. Нам отказывают в праве на территорию, поскольку мы делегировали свою власть представителям, которые нас не представляют. Всю нынешнюю политическую систему я считаю ненужным излишеством, и чем скорее она прекратит существование, тем лучше. Последний год — я имею в виду «арабскую весну» и другие события — блистательно показал, что стоит перестать бояться, стоит массам заявить о себе в лицо правящему меньшинству, как у этого меньшинства не остается шансов.
В Британии такое тоже вполне может случиться. Ведь политические партии у нас, по большому счету, уже никому не нужны. В 1980-х я был членом лейбористской партии, тогда в партию пришло много народу из числа крайних левых, потому что надо было бороться с тэтчеризмом. Но тогда лейбористская партия была социалистической, у нее в программе еще бы Четвертый пункт… А сейчас политические партии — это одна шелуха, призраки того, чего давно не существует. Отчего же тогда не набраться храбрости и не избавиться от них раз и навсегда?
theoryandpractice.ru
Саймон Кричли. Книга мертвых философов
- Саймон Кричли. Книга мертвых философов / Пер. с англ. П. В. Миронова. — М.: РИПОЛ классик, 2017. — 448 с.
Саймон Кричли — английский философ, публицист, профессор Новой школы социальных исследований (Нью-Йорк). Автор ряда книг, таких как «Этика деконструкции: Деррида и Левинас» (1992), «Надежда отчаявшихся» (2012), «О самоубийстве» (2015). В 2017 году вышел перевод сборника его эссе о творчестве Дэвида Боуи. «Книга мертвых философов» также сборник коротких эссе примерно о 200 мыслителях, охватывающий все основные философиские школы, начиная от классических греческих и китайских ученых и заканчивая христианскими святыми и теоретиками нынешних дней. В свойственной ему провокационной и развлекательной манере Кричли делится интересными историями как о том, что думали философы о смерти, так и о том, как именно они умирали.
Долгий XX век. II
Аналитики, континенталисты, немного агонии и околосмертельный опыт
Ганс-Георг Гадамер (1900-2002)
Гадамер — единственный философ в этой книге, умерший почти на моих глазах. Дело было в Перудже, в Италии, в 1986 году, в летней школе, посвященной Хайдеггеру (в то время я был аспирантом). Гадамер должен был произнести речь о своем бывшем учителе, и около 40 человек собралось в ожидании услышать его историю о недавно опубликованных лекциях Хайдеггера (которые он сам, к слову, посещал в Марбурге в 1920-е годы).
Ослабевший с возрастом, передвигающийся с палочками вследствие перенесенного в 22 года полиомиелита, Гадамер спускался по лестнице в аудиторию. Внезапно он упал. Громыхание палочек и стук ударяющегося о каждую из двадцати пяти ступенек итальянского мрамора тела отдавался эхом в каждом из нас.
Мы ожидали худшего. Приехавшая по вызову скорая отвезла его в больницу. Необычайно быстро он поправился, и уже через несколько дней произносил свою речь. Синяки на голове были прикрыты бинтами.
Эта история как нельзя лучше иллюстрирует упорство этого человека и гуманизм, который он защищал на поприще философа. Гадамер был весьма впечатляющим человеком. Помню, как несколько студентов сидели с ним вечером на улице в те же времена, наслаждаясь умбрийскими ночами и обсуждая Платона — предмет страсти Гадамера. Мы пили красное вино (если говорить совсем честно, то очень много красного вина), и Гадамер сказал: «Платон считал, что вино крайне важно. Оно приводит кровь в движение». К счастью, медицина недавно подтвердила изыскания Платона.
На 102-м году жизни Гадамера спросили, что он думает об атаке на Всемирный торговый центр. Он ответил по-немецки: «Es ist mir recht unheimlich geworden», что означает, что мир превратился в странный и необъяснимый даже для него. «Люди не могут жить без надежды, и это — единственное утверждение, которое я буду защищать безусловно». Однако, когда его ученик и преемник Дитер Генрих в последний раз приезжал к нему в Гейдельберг, Гадамер вновь повторил, что человек не может жить без надежды, но при этом добавил, что надежды осталось «вот сколько», показывая крошечный зазор между большим и указательным пальцем.
Когда Гадамера спрашивали о смерти, он язвительно замечал, что «это одна из самых неприятных частей жизни». Когда же журналисты допытывались, мучается ли он, он отвечал: «Не слишком, все просто стало очень сложно». Подвижность Гадамера в последние годы жизни была изрядно ограничена, и он часто шутил: «Слава Богу, что люди думают не ногами».
Незадолго до смерти Гадамер жаловался на боли в желудке и перенес операцию, после которой как будто полностью оправился, что было удивительно для человека его возраста. День выписки он отпраздновал чашкой супа и бокалом вина. На следующее утро у него случился сердечный приступ, он потерял сознание и умер тем же вечером.
Жак Лакан (1901-1981)
Пожалуй, во всей современной континентальной философии нет фигуры более противоречивой, чем Жак Лакан. Кому-то он представляется мракобесом и шарлатаном, прикрывающимся одежками софистов; другие же благоговеют перед ним и считают его слова не менее пророческими, чем текст Писания.
Мне кажется, что, прежде всего, Лакан был учителем психоанализа. Он сформировал концептуальную философскую основу, повлиявшую на клинические факторы дисциплины. Лакан развивал свое учение перед сотнями людей, проявляя большую эрудицию, юмор и оригинальность, на семинарах, которые он проводил с 1953 по 1979 год.
В первую сессию своего двадцать шестого и последнего семинара 21 ноября 1978 года Лакан открыл рот и не смог произнести ни слова. Зрители тоже молчали, не в силах поверить в происходящее. Лакан утратил голос, пленявший французских интеллектуалов на протяжении последней четверти века.
Он повернулся к доске и начал рисовать крючки, узелки и другие топологические символы, все больше занимавшие его в последние годы. Затем он запутался, повернулся к публике, что-то пробормотал о совершенной им ошибке и вышел из аудитории.
По словам его верного, хотя иногда и язвительного биографа Элизабет Рудинеско, кто-то в зале сказал: «Это не важно, мы все равно вас любим».
Преподавание Лакана в последние годы во многом характеризовалось паузами. Некоторые списывали их на глубину ума и дальновидность философа, другие считали, что все дело в частичном параличе или нарушениях кровообращения в сосудах головного мозга. Как бы то ни было, чуть позже Лакан сам диагностировал у себя рак толстой кишки, но отказался от операции из-за страха перед хирургическим вмешательством.
В последний год жизни Лакан был все больше сбит с толку и одинок. Окружавшие его члены семьи контролировали расформирование основанной им школы психоанализа и спешили открыть новую, во главе которой стояли дочь и зять Лакана. Рак толстой кишки неумолимо развивался, и философ согласился на операцию. Ему наложили швы, которые внезапно разошлись, и вскоре Лакан начал страдать от перитонита, а затем и от сепсиса.
Как и его кумиру Фрейду, Лакану прописали морфий, и прежде, чем он сработал, Лакан произнес свои последние слова: «Я упрям… я умираю».
Теодор Адорно (1903-1969)
Я много думал об Адорно, Тедди, как его называли друзья, или «нашем старине Тедди», как он подписывал личные письма мне. Во время вынужденного изгнания из родного Франкфурта в период Второй мировой войны Адорно провел почти восемь лет в Брентвуде, в Западном Лос-Анджелесе, в пяти кварталах от места, где я пишу эти строки. С декабря 1941 по октябрь 1949 года семья Адорно жила в комфортабельном доме на Саут-Кентер-авеню, неподалеку от дома, где О. Джей Симпсон «якобы» убил свою бывшую жену.
Годы, проведенные Адорно в Лос-Анджелесе, оказались для него чрезвычайно продуктивными. В соавторстве с Максом Хоркхаймером он написал «Диалектику Просвещения», закончил «Философию новой музыки», принял участие в проекте «Исследование авторитарной личности» и набросал основные содержательные фрагменты своей наиболее читаемой книги «Минима Моралиа». По правде говоря, сложно представить себе размышления Адорно об индустрии культуры и потребительском капитализме в отрыве от зажиточной залитой солнцем пустыни Западного Лос-Анджелеса. Солнце пустыни отбрасывает четкие темные тени, так удачно показанные в лучших голливудских фильмах того периода в стиле «нуар».
По тону прозы Адорно того периода (писавшего, к примеру, что каждая поездка в кино отупляла и портила его) можно судить, что Тедди и его многострадальная жена Гретель вели в Брентвуде счастливую жизнь. Много времени они проводили с Хоркхаймерами и Томасом Манном, жившим неподалеку. Также они были активными членами голливудского общества, встречались со звездами вроде Греты Гарбо. Тедди как обычно крутил романы. Чарли Чаплин пригласил Адорно на частный показ своего фильма 1947 года «Месье Верду». После ужина Адорно играл на фортепьяно, а Чаплин показывал пародийные сценки.
Возможно, именно слово «No» в имени Адорно ускорило его гибель (Тедди Визенгрунд взял лишь корсиканскую фамилию матери, подавая в Калифорнии заявку на американское гражданство). В разгар политической драмы вокруг студенческого движения во Франкфурте в 1968 леворадикальные студенты атаковали Адорно за его критику. Его «Нет!» воспринималось, как противодействие, отрицание революционной политики действия. Адорно писал в письме Сэмюэлу Беккету: «Во всяком случае, в том, что тебя со всех сторон атакуют как реакционера, есть элемент неожиданности».
22 апреля 1969 года в начале его последнего лекционного курса произошел инцидент, изрядно потрясший Адорно. Двое студентов взобрались на платформу и потребовали от него публично покаяться за то, что он вызвал полицию для разгона студентов, оккупировавших Институт социальных исследований, и за то, что он принимал участие в судебном преследовании бывшего студента Ганса-Юргена Краля (чье нашумевшее дело было в то время на слуху у всех левых радикалов).
Один студент написал на доске: «Если Адорно оставить в покое, капитализм никогда не прекратит существовать». Затем его окружили три студентки, которые посыпали его лепестками цветов, обнажили груди и начали эротическое представление. Тедди никогда не был ханжой, и, при других обстоятельствах, скорее всего, оценил бы происходящее, но в этот раз он сбежал в панике.
Больше он лекций не читал. Находясь в состоянии физического и морального истощения, он отправился в отпуск в Швейцарию с Гретель. После интенсивного восхождения на 3000-метровую гору Адорно почувствовал учащенное сердцебиение. На всякий случай Гретель отвезла его в местную больницу и вернулась в отель. На следующий день она узнала, что утром он скончался в результате сердечного приступа.
Те, кому знакома безжалостная критика, свойственная работам Адорно, оценят иронию: он родился 11 сентября и умер 6 августа, в годовщину бомбардировки Хиросимы.
В 1970 году, вскоре после публикации «Эстетической теории» — последней, незаконченной работы Адорно, Гретель попыталась покончить с собой, выпив снотворного. Попытка не увенчалась успехом, но до самой своей смерти в 1993 году она нуждалась в постоянном наблюдении.
Эммануэль Левинас (1905-1995)
В серии автобиографических высказываний, опубликованных под общим названием «Подпись», Левинас рассказывает о том, что всю его жизнь предопределили воспоминания об ужасах нацизма. Во время Второй мировой войны Левинас, уроженец Литвы, получивший французское гражданство в 1930 году, потерял большую часть близких и дальних родственников. Вероятно, нацисты убили их во время погромов, прошедших в июне 1940 года при активном участии литовских националистов.
После падения Парижа немцы захватили Левинаса в плен в июне 1940 года в Ренне и отправили в лагерь в Магдебург, на севере Германии. Левинас был офицером французской армии, поэтому вместо концентрационного лагеря попал в лагерь для военнопленных, где в течение пяти лет работал в лесах. Его жена и дочь изменили имена и прятались в католическом монастыре в окрестностях Орлеана. После войны Левинас поклялся никогда больше не ступать на немецкую землю.
В своем втором по счету философском трактате «Инобытие, или По другую сторону сущности» (1974) Левинас пишет посвящение на иврите, перечисляя всех убитых членов своей семьи. Во втором посвящении, на французском языке, он сосредотачивается на войне во Вьетнаме и вспоминает всех тех, кто погиб от того же антисемитизма, от той же ненависти к другим. Антисемитизм в понимании Левинаса — это антигуманизм, и главный урок, который можно извлечь из Холокоста, — научиться брать на себя ответственность за другого человека. Именно об этой ответственности во время Второй мировой, да и многих других войн, совершенно забыли.
Жизнь Левинаса-философа в той же мере была предопределена воспоминаниями об ужасах нацизма, как и его личная жизнь. В 1928 году он учился во Фрайбурге, где проводил презентацию на последнем семинаре Гуссерля, и посетил первую лекцию преемника Гуссерля Хайдеггера. Будучи во Фрайбурге, Левинас активно читал «Бытие и время» Хайдеггера. Спустя много лет он вспоминал: «Я отправился во Фрайбург за Гуссерлем, но нашел Хайдеггера».
В последующие годы, вернувшись во Францию, он планировал написать ознакомительную книгу о Хайдеггере, первую в своем роде.
Представьте, как был шокирован Левинас, узнав, что в 1933 году Хайдеггер вступил в НСДАП. Спустя годы он писал: «Многих немцев можно простить, но есть те, которых простить тяжело. Тяжело простить Хайдеггера». Левинас забросил книгу о Хайдеггере и провел следующие несколько лет, анализируя свой подход к философии и иудаизму.
Принимая во внимание, что между философией Хайдеггера и его политическими воззрениями есть фатальная связь, Левинас задался вопросом, как философия может существовать, не совершая подобной ошибки. Как мы уже заметили в случае с Эдит Штайн, основная концепция, требующая переосмысления — это смерть. В «Бытии и времени» Хайдеггер пишет, что смерть — это «возможность невозможности».
Таким образом, смерть есть ограничение жизни, которое необходимо осознать для того, чтобы познать самого себя.
Левинас попросту выворачивает это высказывание наизнанку и заявляет, что смерть есть «невозможность возможности», то есть явление, которое не может быть предсказано, представлено и понято.
Смерть — это не явление, позволяющее появиться истинной личности, а, скорее, непознаваемое событие, разбивающее жизнь, и оставляющее человека пассивным и беспомощным. Другими словами, по Левинасу, смерть не принадлежит человеку, но является чем-то совершенно иным. На основании этого утверждения он выстраивает этическую проблематику, открытую влиянию Другого. Наиболее убедительное воплощение Другого здесь — другой человек.
По иронии судьбы, великий еврейский философ скончался в канун Рождества 1995 года. Прощальную речь на похоронах четыре дня спустя произнес Жак Деррида. Причиной смерти, скорее всего, стала болезнь Альцгеймера, но это так и осталось неподтвержденным из-за того, что сын и дочь Левинаса яростно спорили из-за наследства.
prochtenie.org
Читать книгу Книга мертвых философов Саймона Кричли : онлайн чтение
Саймон Кричли
Книга мертвых философов
Simon Critchley
THE BOOK OF DEAD PHILOSOPHERS
Авторская серия Саймона Кричли
Originally published in English by Granta Publications under the title The Book of Dead Philosophers
Copyright © Simon Critchley 2008 Simon Critchley asserts the moral right to be identified as the author of this Work
© Миронов П. В., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017
* * *
«Эта невероятно приятная для чтения книга наглядно показывает, что атеисты и материалисты уходят в могилу с тем же спокойствием, что и истинно верующие. Автор верит, что мы не можем жить правильно или мирно, пока не согласимся с конечностью своей природы. С его точки зрения, в наше время люди ищут все больше материалистических причин для того, чтобы отвлечься от самой мысли о смерти».
Воскресный выпуск газеты Independent
«Кричли, который, по мнению писателя Тома Маккарти, представляет собой самого острого и точного философа, пишущего на английском языке в наши дни, говорит о серьезных идеях, и делает это с немалым юмором».
London Review of Books
«В свойственной ему провокационной и развлекательной манере… Кричли делится интересными историями как о том, что думали философы о смерти, так и о том, как именно они умирали… Приведенные им описания не ставят целью лишь развлечь нас (хотя, безусловно, им это удается). Кричли полагает, что они призваны бросить вызов устоявшейся концепции философии, согласно которой она представляет собой форму абстрактного концептуального поиска, не имеющего никакой разницы для жизни людей, которые ей занимаются».
Guardian
«Наброски Кричли о жизни и смерти философов, начиная с античных времен… прекрасны, интересны, информативны и наполнены легкостью и юмором».
New Humanist
«Сама тема довольно непроста, однако книга написана с привлекательной легкостью и вниманием к биографическим деталям».
The Philosophers’ Magazine
«Книга Кричли заставит людей интересоваться, почему мы вообще здесь находимся».
Big Issue Cymru
«Сопротивление Кричли аккуратной телеологической истории философских систем вызывает искреннее восхищение».
Frieze
«Кричли рассказывает о смертях своих предшественников как о 190 выплесках энергии, которые, по его мнению „могут помочь нам встать лицом к лицу с реальностью нашей смерти“. Эта книга, представляющая собой своеобразный сборник жизнеописаний, сильно отличается от назидательных томов популярной философии не только степенью доступности информации, но и масштабом охвата».
Sunday Herald
«Задавая важные вопросы, Кричли при этом демонстрирует потрясающий калейдоскоп наиболее примечательных судеб в истории философии».
The List
«Книга, представляющая собой сборник коротких и великолепно написанных эссе примерно о 200 мыслителях, охватывает все основные школы мысли, начиная от классических греческих и китайских ученых и заканчивая христианскими святыми и теоретиками нынешних дней. Обсуждая труды, жизнь и смерть этих людей, Кричли надеется освободить нас от «ужаса аннигиляции», управляющего нашими жизнями и лишающего ее удовольствия… Книга Кричли – вполне интересный первый шаг в познании этого не всегда дружелюбного мира, а энтузиазм автора в отношении философии как практики повседневной жизни – и смерти – не может не увлекать читателя».
San Francisco Chronicle
«Это смелый писатель. Он написал интересную и глубокую книгу, хотя, на первый взгляд, может показаться, что это – лишь сборник острот, отчасти довольно милых».
New York Observer
«Работа, заставляющая философию вновь стать чем-то важным».
Booklist
Введение
Эта книга начинается с простого предположения о том, что в настоящее время в нашем уголке планеты человеческая жизнь определяется не страхом смерти, а невероятно сильным ужасом аннигиляции. Мы боимся неизбежности своей смерти, связанной с ней болью и бессмысленного страдания. Мы боимся того, что в итоге останется в могиле от тела, упакованного в ящик и опущенного в землю с тем, чтобы оно стало кормом для червей.
С одной стороны, мы склонны отрицать факт смерти и погружаться с головой в мир удовольствий, забвения, опьянения и бездумного накопления денег и имущества. С другой стороны, ужас аннигиляции заставляет нас безоговорочно верить в волшебные формы спасения и обещания бессмертия, которые дарят нам различные формы традиционной религии и множество софистов эпохи «Нью-эйдж» (часто базирующихся на довольно старых идеях). Мы пытаемся обрести или временное утешение в форме мгновенного забвения, или чудесное избавление в загробной жизни.
Идеал философской смерти обладает отрезвляющей силой, противостоящей опьяняющему нас желанию бежать и скрываться от этого вопроса. Как пишет Цицерон (это заявление было аксиоматичным для древней философии в целом и находило отклик в последующие эпохи), «философствовать – значит учиться умирать». С этой точки зрения основная задача философии состоит в том, чтобы подготовить нас к смерти, провести своего рода тренировку и сформировать определенное отношение к конечности нашего существования, предполагающего ужас аннигиляции и не обещающего загробной жизни. Монтень пишет об обычае древних египтян, которые приносили на свои пиршества некий образ смерти – обычно человеческий скелет, – а специально обученный человек обращался к участникам: «Пей и возвеселись сердцем, ибо, когда умрешь, ты будешь таким же».
Из этой истории Монтень выводит следующую мораль: «…я приучал себя не только думать о смерти, но и говорить о ней всегда и везде». Таким образом, заниматься философией означает учиться смерти – в словах, которые вы говорите, пище, которую едите, и напитках, которые вы пьете. Именно таким образом мы начинаем противостоять ужасу аннигиляции, поскольку в конечном счете именно страх смерти превращает нас в рабов; он либо ведет к ее временному забвению, либо заставляет мечтать о бессмертии. Как пишет Монтень, «кто научился умирать, тот разучился быть рабом». Это поистине потрясающее заключение: предвидение смерти представляет собой не что иное, как предвидение свободы. Следовательно, попытка избежать смерти означает, что вы остаетесь несвободными и пытаетесь бежать от самих себя. Отрицание смерти – это ненависть к самому себе.
В Античности считалось вполне естественным, что именно философия дает нам мудрость, необходимую для противостояния смерти. Философ смотрит смерти в лицо и имеет достаточно сил, чтобы заявить о том, что она ничего не значит. Одним из первых проповедников подобной философской смерти был Сократ, о котором я детально расскажу ниже. В диалоге Платона «Федон» он утверждает, что философ должен оставаться бодрым даже перед лицом смерти. Но он идет дальше и говорит, что истинные философы превращают умирание в свою профессию. Если человек научился умирать по-философски, то он может относиться к самому факту кончины с должным самоконтролем, безмятежностью и смелостью.
Эта сократовская мудрость находит еще более радикальное выражение несколькими столетиями позднее в стоицизме Сенеки, который пишет: «Если что-то и мешает тебе жить хорошо, то ничто не мешает хорошо умереть». В его представлении философ наслаждается долгой жизнью, поскольку он не беспокоится о ее краткосрочности. Стоицизм пытается учить нас «чему-то великому, высшему и почти небесному», а именно спокойствию и умиротворенности перед лицом смерти.
Сенека знал, о чем говорит. Он был приговорен к смерти Калигулой в 39 году н. э. и был сослан Клавдием по обвинению в связях с племянницей императора в 41 году. Затем, когда он уже стал самой важной интеллектуальной фигурой в римском мире и одним из наиболее влиятельных чиновников, Нерон заставил его совершить самоубийство в 65 году.
Сенека пророчески пишет: «Я знал, в каком бурлящем обществе Природа отвела для меня место. Мне часто доводилось слышать вокруг себя грохот падающих зданий. Многие из тех, с кем я общался на Форуме и в Сенате, с кем вел разговоры по ночам, предпочли разорвать прежние узы дружбы. Стоило ли мне удивляться, что бедствия, до поры, обходившие меня стороной, в какой-то момент настигли и меня?»
И хотя фактически смерть философов не всегда так благородна, как у Сократа, а довольно неприятные обстоятельства неудачного самоубийства Сенеки будут описаны ниже, пока что я хочу защитить сам идеал философской смерти. В мире, где единственная метафизика, в которую верят люди – это либо деньги, либо медицина, и где долголетие считается одним из высших благ, я не могу отрицать, что смерть – это довольно сложный для защиты идеал. Однако я убежден, что философия может научить нас готовности к смерти – без этого любая концепция или любое истинное удовольствие, не говоря уже о счастье, будут иллюзорными. Хотя это и может показаться странным, но единственное, о чем я постоянно думаю и забочусь, описывая эти печальные истории – это смысл и возможность счастья.
Если говорить совсем просто, то эта книга о том, как умирали философы и о том, чему мы можем научиться у философов с точки зрения отношения к смерти и умиранию. Перефразируя эпиграф из книги Монтеня, я пытался создать, «реестр различных видов смерти с соответствующими комментариями». Мне представляется, что, научившись тому, как надо умирать, мы сможем научиться тому, как жить.
Позвольте мне сделать небольшое предостережение относительно формы «Книги мертвых философов». Эта книга представляет собой собрание коротких, иногда очень коротких, рассказов о различных философах и том, как именно они умирали. Зачастую смерть философов привязана к идеям, которые они проповедовали. Некоторые рассказы имеют всего пару строк, а другие представляют собой небольшие эссе (в случае особенно значимых философов или тех, которых я особенно ценю). К примеру, читатель найдет в книге довольно подробные описания жизни и смерти таких личностей, как Сократ, Диоген, Эпикур, Лукреций, Чжуан-цзы, Сенека, Блаженный Августин, Фома Аквинский, Монтень, Декарт, Локк, Спиноза, Юм, Руссо, Гегель, Шопенгауэр и Ницше. Также я уделил большое внимание мыслителям XX века вроде Витгенштейна, Хайдеггера, Айера, Фуко и Деррида. Очерки расположены в хронологическом порядке, начиная от Фалеса, жившего в VI веке до н. э., и заканчивая философами нашего времени. Они разделены на серии глав, отражающих основные эпохи в истории философии. При этом моя хронология не всегда будет точной, а философы не всегда будут рассматриваться в строгой временной последовательности, в частности тогда, когда это не подходит для моих целей.
Я не пытался описывать, как умер каждый значительный философ. Опытный глаз наверняка заметит пробелы, а многие читатели не согласятся с моим выбором героев. Некоторые философы не были включены в эту книгу – либо потому, что я не нашел в их смерти ничего интересного (например, Фреге, Гилберт Райл или Дж. Л. Остин), либо из-за того, что их смерти произошли совсем недавно (как в случае Ричарда Рорти, умершего 8 июня 2007 года, когда я уже завершал эту книгу). Если говорить совсем просто, то я сконцентрировался на философах, показавшихся мне интересными. Однако это уже немало – число моих героев составляет около 190.
Открывая для себя большое количество более и менее значимых фигур в истории западной философии (в том числе удивительно большое количество женщин-философов), читатель найдет в книге и довольно поверхностное описание жизни святых, классических китайских философов, а также средневековых исламских и иудейских философов, среди которых некоторые имели довольно увлекательные взгляды на смерть (и даже умерли вполне примечательной смертью). Статьи о моих героях можно читать или от начала до конца, или в любом другом порядке. Я совершенно не возражаю, если книга будет использоваться для того, чтобы убить время, но надеюсь, что (при чтении с начала до конца) вы сможете увидеть целый ряд сквозных тем, позволяющих понять, каким образом философия может научить человека правильно умирать и (пусть опосредованно) тому, как жить.
Как-то раз Матисса спросили, верит ли он в Бога. Он ответил: «Да, когда я работаю». Давайте просто скажем, что эта книга стала результатом большой работы. Хотя в моих исследованиях использовалось огромное количество литературных источников, я решил не засорять свой текст ссылками. Читателю придется довериться мне. Желающие проследить за моими источниками и узнать что-то новое для себя могут воспользоваться аннотированной библиографией в конце книги. Те же, кто стремится к большему и хочет узнать что-то еще об истории философии и философов, могут обратиться за информацией к последним страницам этого введения.
Сократ,
или Умение умирать
Принято считать, что философия начинается с суда над Сократом и его смерти. Сократ был приговорен к ней по обвинению, сфабрикованному Мелетом, Анитом и Ликоном. Против него было выдвинуто два обвинения: в развращении афинской молодежи и в отказе поклоняться богам города. По свидетельству Платона, существовало и третье обвинение в том, что Сократ придумал своих собственных, «новых» богов. Вне зависимости от справедливости последнего обвинения, Сократ всегда заявлял о том, что следует своему собственному daimon, «чему-то небесному», по слову Цицерона, то есть личному богу или духу, который мы привыкли называть совестью. Однако daimon Сократа не был неким «внутренним голосом», а, скорее, внешним знаком или командой, которая могла бы заставить его внезапно перестать заниматься тем или иным делом.
Смерть Сократа иногда воспринимается как политическое шоу и казнь невинного инакомыслящего в условиях тиранического государства. При этом не следует забывать, что среди последователей Сократа были весьма реакционные люди. Ученик Сократа Критий был лидером «Тридцати тиранов» – антидемократической группы правителей Афин в 404–403 гг. до н. э. Стоит также напомнить, что, согласно Ксенофонту, единственным учеником Сократа, которому тот посоветовал заняться политикой, был нерешительный Хармид, еще один из «Тридцати тиранов», впоследствии погибший на поле боя вместе с Критием.
И, наконец, Алкивиад – миловидный, харизматичный и развращенный аристократ, описанный в «Пире» Платона в образе пьяницы – дважды перебегал из Афин к врагу (один раз к спартанцам, а второй – к персам). Сократ, особенно в версии, приводимой Платоном в «Государстве», вряд ли может считаться большим сторонником демократии, а аристократы из правого крыла могли вполне оправданно считать его учения средством разжигания недовольства демократией.
Смерть Сократа – это трагедия из нескольких актов. Гегель пишет, что суд над Сократом представляет собой момент, когда трагедия сходит со сцены и полностью входит в политическую сферу, становясь трагедией разложения и коллапса самих Афин.
Платон посвящает не менее четырех диалогов событиям, окружающим суд над Сократом и его смерть («Евтрифон», «Апология», «Критон» и «Федон»). Помимо этого, не следует забывать и о «Воспоминаниях о Сократе» и об «Апологии (Защите Сократа на суде)» Ксенофонта. В «Федоне», который часто считается последним из четырех диалогов Платона, слова Сократа перекликаются с пифагорейской верой самого Платона в бессмертие души. Однако появившаяся ранее «Апология» содержит иную точку зрения на вопрос. Сократ говорит, что смерть – это не зло, а, напротив, благо. Смерть представляет собой одну из двух возможностей – либо это аннигиляция, и мертвый человек не имеет какого-либо сознания; либо это реальное изменение, то есть перемещение души из этого места в другое.
При этом Сократ настаивает на том, что, вне зависимости от того, какие из этих возможностей действительны, смерть это не то, чего стоит бояться. Если это аннигиляция, то тогда смерть долгий и крепкий сон без сновидений, а что может быть более приятно? Если же смерть предполагает перемещение в другое место, а именно Гадес, то это – не менее желанный исход, ведь у нас появляется возможность встретить старых друзей и греческих героев, а также поговорить с Гомером, Гесиодом и всей остальной бессмертной компанией.
Существует и еще одна история про Сократа. Некий человек сказал ему: «Тридцать тиранов приговорили тебя к смерти», на что Сократ ответил: «А их осудила на смерть природа». Сократ переводит разговор на своих обвинителей и судей, утверждая, что те должны встретить смерть с уверенностью. Будучи приговоренным к смерти, Сократ завершает свою речь следующими потрясающими словами:
Пришло время двигаться дальше – мне умирать, а тебе жить. Однако никто, кроме Бога, не знает, кому из нас повезет больше.
Эти слова исчерпывающим образом описывают классическое философское отношение к смерти – ее не нужно бояться. Напротив, смерть напрямую связана с тем, как нужно проживать жизнь. Загадочные последние слова Сократа. «Критон, нужно принести петуха в жертву Асклепию». – отражают точку зрения, согласно которой смерть – это лекарство от жизни. Асклепий был богом врачевания, и люди, страдавшие от заболеваний, обычно приносили ему жертву перед сном в надежде проснуться исцелившимися.
Анализируя слова Сократа относительно смерти, приведенные в «Апологии», нужно понимать, что, хотя смерть и может выражаться в форме одного из двух описанных выше вариантов, мы не знаем, какой из них верен. Иными словами, философия учит нас, как умирать, но эта информация еще не представляет собой истинное знание. И это крайне важно. То, чему нас учит философия, – это не некий ограниченный объем знаний, который может покупаться или продаваться подобно товару на рынке. Этим занимаются софисты – Горгий, Продик, Протагор, Гиппий и другие, взгляды которых Сократ неустанно критикует в диалогах Платона. Хотя Сократ описывался Аристофаном в комедии «Облака» как софист, сами софисты представляли собой класс профессиональных преподавателей, возникший в V веке до н. э. и обучавший за определенную плату молодых людей искусству публичных выступлений. Софисты были мастерами разговора, «сладкоречивыми», как пишет Филострат. Они путешествовали из города в город, предлагая знание в обмен на деньги.
В противовес харизматичным и ярко одетым софистам, обещавшим знание всем желающим, плохо одетый и немного отталкивающий Сократ олицетворяет собой выражение парадокса. С одной стороны, Сократ был объявлен Оракулом в Дельфах самым мудрым человеком Греции. С другой стороны, Сократ всегда настаивает на том, что ничего не знает. Как же может быть, что самый мудрый человек в мире ничего не знает? Этот кажущийся парадокс исчезает, когда мы учимся отличать мудрость от знания и становимся любителями мудрости, то есть философами.
К примеру, в «Государстве» рассматривается вопрос справедливости. «Что такое справедливость?» – спрашивает Сократ, после чего начинается обсуждение, препарирование и отвержение множества более-менее распространенных точек зрения на справедливость. Однако в главных книгах «Государства» Сократ не дает своим собеседникам исчерпывающего ответа на вопрос о справедливости или какой-нибудь общей теории по этому вопросу. Вместо этого мы знакомимся с набором историй, – самой известной из которых выступает миф о пещере, – отвечающих на заданный вопрос косвенным образом. Нам говорят, что путь к справедливости состоит в обращении души в сторону Бога, что, явным образом, означает не познание, а действие, связанное с любовью. Таким образом, философия начинается с сомнения в определенности и реальности знания, а заканчивается взращиванием любви к мудрости. Философия эротична, а не просто эпистемична.
Никогда прежде не было столь важно подчеркнуть различие между философией и софистикой, как в наше время. Мы окружены бесчисленным количеством новых софистов. Телеевангелисты навязывают нам авторитарное толкование истинного Слова Божия и совершают чудеса исцеления в обмен на немалые суммы пожертвований. Возникла целая индустрия «нью-эйдж», в которой Знание (с большой буквы) того, что называется «Я» (с большой буквы) предлагается обернутым в дорогостоящую и ярко раскрашенную упаковку. Я пишу эти строки на бульваре Уэст-Сансет в Лос-Анджелесе, совсем недалеко от дворца с вывеской «Центр Самореализации», в котором можно найти и сады, и священное озеро, и китчевую архитектуру в индийском стиле, и дорогостоящие программы по улучшению духовного самопознания и объединения с Богом.
Думаю, что будет вполне справедливым сказать, что западные общества (и не только они) сталкиваются с разрывом смысла, угрожающим вырасти в настоящую бездну. Этот разрыв заполняется различными формами мракобесия – для начала утверждается, что самопознание более чем достижимо, затем – что за это удовольствие надо платить, а затем и то, что поиски самосознания напрямую связаны со стремлением к богатству, удовольствиям и личному спасению. Напротив, Сократ никогда не заявлял о том, что что-то знает наверняка, никогда не обещал знания другим и, самое главное, никогда не принимал плату.
Мы хотим обрести уверенность и отказаться от ужаса смерти и беспокойства. Мы хотим быть уверены в том, что смерть – это не конец, а переход к загробной жизни. А если у вечной жизни имеется плата за вход, то кто не был бы готов ее внести? И эта точка зрения полностью противоречит Сократу и его скептицизму. Сократ не просто выражает сомнение в загробной жизни, он поднимает вопрос о том, что предпочтительнее – жизнь или смерть. Философ – это любовник мудрости, который не заявляет о своем знании, а выражает радикальное сомнение по отношению ко всему, даже к тому, какое состояние лучше – жизнь или смерть. Последние слова Сократа после суда звучат так: «Знает лишь Бог». Диоген Лаэртский, автор широко известной книги «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», написанной в III веке н. э., рассказывает поразительную историю Фалеса, обычно считающегося первым философом.
Фалес утверждал, что между жизнью и смертью нет никакой разницы. «Почему же, – спросили его, – вы не умираете?» «Как раз потому, – сказал он, – что это ничего не изменит».
Таким образом, для того, чтобы быть философом, нужно научиться тому, как умирать, и вырабатывать в себе правильное отношение к смерти. Как пишет Марк Аврелий, одна из самых благородных функций разума состоит в том, чтобы понять, пришло ли время покинуть мир или еще нет. Философ же покидает мир незнающим и неуверенным.
iknigi.net
философ Саймон Кричли о комплексе бездействия Гамлета
Шекспир слишком часто ассоциируется с чем-то сентиментальным, обывательским, ностальгическим, а так же с поверхностным образом Англии и всего английского. Действительно, индустрия, связанная с Шекспиром, зависит от рыночного продвижения этого образа. Это касается и предметов внутреннего потребления. Будь то магниты на холодильник, летние постановки на открытом воздухе или культурный экспорт, вроде проекта «Глобальный Гамлет» в 102 странах мира. Однако существует более радикальная и подрывная версия Шекспира, которая лучше всего считывается в самой значительной и известной пьесе драматурга — «Гамлет».
Среди писем с отказами, которые мы получили, пытаясь издать «Доктрину Гамлета» в Британии (в США мы не сталкивались с такими проблемами), было письмо от одного издателя, который назвал книгу «непубликуемой, потому что она оскорбляет литературную культуру моей страны». В каком-то смысле он прав: наша книга явно осуждает доминирующую версию английской культуры.
«Гамлет — это не тот, кто не может сохранить рассудок, но, напротив, тот, кто стремится окончательно его потерять. Дело не в том, что мы не знаем, что делать, а в том, что мы слишком много знаем и ничего не делаем»
Говоря проще, нужно побороть слащавого Шекспира и сделать его работы снова опасными. Если бы власти действительно понимали, что происходит в голове у Гамлета, вряд ли они разрешали студентам изучать текст пьесы. Мир «Гамлета» — это сфера всепроникающего шпионажа, в котором и зеркало — орудие слежки за самим собой. «Гамлет», пожалуй, это драма полицейского государства, вроде полицейской Англии Елизаветы в конце XVI века, или Англии Елизаветы нынешней, когда множество камер наблюдения следят за перемещающимися по Лондону гражданами. Агонизирующая паранойя Гамлета — это лишь предвкушение нашей сегодняшней паранойи.
В отличие от типичного прочтения «Гамлета» на гуманистический и морализаторский лад — история про милого парня, страдающего от непосильной ноши, выпавшей на его долю, — мы предлагаем подход в духе того, что Вирджиния Вулф называла опрометчивым, болезненным и непочтительным. Наш анализ пьесы опирается на серию маргинальных интерпретаций — философских и психоаналитических, — которые отражают наши общие позиции и убеждения и, вместе с тем, проливают свет на проблему Шекспира и английскости. Это концепции, которые предлагают Карл Шмитт, Вальтер Беньямин, Гегель, Фрейд, Лакан, Ницше, Мелвилл и Хайнер Мюллер.
В конце своей небольшой книги о Гамлете, Шмитт делает весьма интригующее заявление. Он утверждает, что Англию конца XVI века — начала XVII века ни в коей мере нельзя назвать политическим государством, поскольку она по-прежнему была варварской страной. Между поражением Испанской армады в 1588 году и так называемой Славной революцией 1688 года (на самом деле и не славной, и не революцией), Англия вступила на путь формирования своей государственности. Но в данном случае, настаивает Шмитт, речь идет о концепции морской державы, которой не обязательно проходить через все стадии континентальной модели, где государство определяется через территорию. В XVII веке, вместе с появлением пиратства, каперства и корсаров, обширной колониальной торговли, компаний, плантационного рабства и, в конце концов, с началом индустриальной революции, Англия пришла к самоопределению не через свою территорию, а через моря. Так Англия стала безответственно эксцентричным государством, которое больше походило на серию земельных владений с некоторыми варварскими чертами, где политика была напрямую связана с пиратством. И чем дальше, тем больше укоренялась эта особенность.
Но это не только безответственное и эксцентричное государство. В начале пятого акта клоун-могильщик говорит, что Гамлета отправили в Англию, потому что он был безумен, однако «там в нем этого не заметят, там все такие же сумасшедшие, как он сам».
 © Jiri Geller
© Jiri Geller
Какова природа безумия принца Гамлета? Как известно, Фрейд считал, что Гамлет страдал от Эдипова комплекса, хотел быть Клавдием, который исполнил его тайное желание убить отца и жениться на матери. Но что, если на самом деле Эдипов комплекс — это Гамлетов комплекс? И вместо того, чтобы действовать согласно своим желаниям, мы слоняемся вокруг, подавленные и меланхоличные, иногда внезапно начинаем острить, каламбурить, говорить непристойности, впадаем в убийственную ярость и жестокость. Гамлет — это не тот, кто не может сохранить рассудок, но, напротив, тот, кто стремится окончательно его потерять. Дело не в том, что мы не знаем, что делать, а в том, что мы слишком много знаем и ничего не делаем.
Для Фрейда образ Гамлета показывает разрушительные последствия вытеснения и подавления желания. Как писал Достоевский, «ад — это неспособность любить». Казалось бы, это Призрак должен мучиться в чистилище, но именно жизнь Гамлета — сущий ад. Фрейд писал о подобных эротических отношениях в возрасте 44 лет, когда уже был не в состоянии довести до конца свои исследования. О том, насколько это было трудно для Фрейда, можно судить по переписке с его квазианалитком Вильгельмом Флиссом, которая относится к периоду формирования фрейдовской теории Гамлета и кризиса в отношениях с женой Мартой.
Другой психоаналитический интерпретатор Гамлета, Жак Лакан, не публиковал собрание своих главных работ до 65 лет. В психоаналитических битвах вокруг вопроса о безумии Гамлета желание может быть найдено с большим трудом, в своих самых предельных формах. Вопреки стенаниям специалистов по психическому здоровью о том, как часто встречаются феномены «отыгрывания вовне», «расторможенности» и других форм потери контроля над поведением, сегодня, спустя четыре века, как написана пьеса, скорее не возможно игнорировать подавленность в стиле Гамлета. Так много мы не можем себе позволить.
Книга Саймона Кричли и Джэмисон Вебстер «The Hamlet Doctrine: Knowing Too Much, Doing Nothing»Беньямин предлагает весьма смутное прочтение Гамлета в своей крайне сложной книге 1928 года, «Происхождение немецкой барочной драмы». Представив достаточно сильное описание мира эпохи барокко, мира, по сути уже мертвого — сад, заросший сорными травами, как сказал бы Гамлет, —Беньямин переходит к утверждению, что шекспировский Гамлет достигает христианского искупления от окружающего его гниения, эдакого мессианского триумфа. Вместе с Гарольдом Бумом, изобретающим новый образ человечества, Беньямину хочется увидеть в Гамлете образ Феникса, восстающего из пепла: Гамлет — это тот, кто бросается на защиту Клавдия вместо того, чтобы сражается против него, он тот, кто перед финальной сценой ожидает услышать истину, хотя она ему уже известна из чьих-то других уст (имеется ввиду реплика Лаэрта: «Король, король виновен!»).
Гегель, к своей чести, не разделяет восторгов Беньямина, и завершает свои лекции по эстетике, труд почти на полторы тысячи страниц, оглушающей интерпретацией Гамлета. Диалектическое напряжение, которое в античной трагедии формировало публичную жизнь города, переносится в сферу приватного и внутреннего, то есть оживает в голове Гамлета, делая его рассеянным и парализованным. Более того, Гегель идет дальше и утверждает, что Гамлет не только неподходящая кандидатура на роль мстителя, но и просто потерянный и даже обреченный человек, снедаемый чувством отвращения.
Ницше, в свою очередь, делает это отвращение центральной темой своей краткой, но чрезвычайно интересной и при этом недооцененной интерпретации «Гамлета» в «Рождении трагедии». Здесь Гамлет — это анти-Эдип. Если Эдип действует, но неосознанно, то Гамлету все известно с самого начала (со слов Призрака), но он не может действовать. Кроме того, причиной такого бездействия не является нерешительность или бессилие Гамлета, скорее, причина в том, что Гамлету отвратительна сама перспектива действия. Почему же, зная страшную тайну, он бездействует? В любом случае, мир катится в тартарары. Такова суть того, что Ницше называет «доктриной Гамлета», и здесь мы снимаем перед ним шляпу.
Мюллер, авангардный драматург из Восточной Германии, делает центром своей постановки — великолепной деструкция Шекспира в «Гамлете-машине» 1978 года — женскую сексуальность. Пьеса сокращена до семи страниц, это что-то вроде сжатой драмы с двумя действующими лицами, где властная Офелия выдвинута на передний план, оставляя в тени Гамлета. Принц представлен как тщеславный трансвестит, а Офелия — своего рода замаскированная Ульрика Майнхоф — фигура, обладающая титанической властью. «Да здравствует ненависть и презрение, бунт и смерть. Когда она идет через вашу спальню, лучше иметь при себе нож, ведь вы знаете правду». Какая женщина! Мы хотели бы быть Офелией.
«Потратьте несколько недель на неторопливое чтение “Гамлета”. Вы увидите, как причудлива эта пьеса. Слишком странная для той самодовольной, обывательской Англии, превратившей Шекспира в индустрию»
Но наш настоящий герой — Герман Мелвилл. Он предлагает незаурядную версию трагедии Гамлета в своей на удивление провальной книге «Пьер, или Двусмысленности». Эта книга могла бы стать бестселлером, готичной эротической халтурой для хороших жен Новой Англии. К сожалению для Мелвилла, но к счастью для нас, Мелвилл не перестает быть Мелвиллом: он пишет изумительную книгу, которая с треском провалилась в продажах. Пьер, чье имя стоит в заголовке книги, не видит ни какого смысла в том, что он называет «безнадежным внутренним мраком» Гамлета, а так же в истории в «этих поверхностных и совершенно случайных уроков, о которых с таким самодовольством разглагольствует дотошный моралист». Мы стараемся воздерживаться от таких напыщенных моралистических тирад.
Гермидж и Конделл, редакторы издания Шекспира 1623 года, в конце своего короткого предисловия увещевают: «Читайте его и перечитывайте снова и снова». Что мы и делаем, повинуясь этому весьма консервативному требованию. Борьба с идеологическим использованием Шекспира, возвращение его подрывной силы, возможна только посредством его прочтения. Потратьте несколько недель на неторопливое чтение «Гамлета». Вы увидите, как причудлива эта пьеса. Слишком странная для той самодовольной, обывательской Англии, превратившей Шекспира в индустрию, она наводит на мысль о возможности представить и обжить другую Англию и другую английскость.
Осознавая, что его любовному роману могут отказать в публикации, Мелвилл, на манер Шекспира подводит Пьера к гибели, используя ситуацию как зеркало. Пьер получает следующее письмо:
«Сэр, вы мошенник. Под видом написания популярного романа, вы получаете от нас денежные авансы, при этом через нашу печать проходят страницы кощунственной рапсодии, краденные у мерзких безбожников, Лукиана и Вольтера… Наш счет за печать в данный момент… в руках у нашего юриста, который знает свое дело и без промедлений приступит к работе со всей строгостью.
СТИЛ, ФЛИНТ И АСБЕСТОС».
Пьер убивает себя вместе со своей сестрой и любовницей, ожидая суда в тюрьме. Мы также с нетерпением ждем оказаться на скамье подсудимых за нашу краденную, кощунственную, самоубийственную рапсодию.
Перевод Дарья Ширяева и Александр Бидин
Вконтакте
Одноклассники
cameralabs.org
Саймон Кричли «Боуи»
Незадолго до смерти Дэвида Боуи философ и университетский профессор Саймон Кричли написал пронзительное эссе о его текстах, соединив многочисленные сценические образы музыканта в портрет меланхоличного отшельника, обладавшего даром превращаться в «чрезвычайно креативное ничто, которое может менять облик, рождать новые иллюзии и создавать новые формы».
Вечно ускользающая цельность, хрупкость и случайность идентичности — одно из первых и главных открытий, сделанных автором, после того как в 12 лет он увидел Боуи, исполнявшего Starman в культовом шоу Би-би-си Top of the Pops: «Его перевоплощения бесконечны. Он великолепен в своем умении становиться кем-то другим на одну песню, иногда — на целый альбом или даже тур». Утопия вечной трансформации, внезапно, благодаря Боуи, окрасившая унылый апокалипсис английских пригородов, была настолько неожиданной и чарующей, что навсегда отменила для вдумчивых подростков 1970-х все, чем интересовались их родители. Вместо футбола, телевизора и желтой прессы эти «космические мальчики и девочки» зачитывались научной фантастикой, воровали, как сам Кричли, пластинки «Зигги Стардаста» и мечтали о новых, дивных мирах: «Он освободил нас, помог нам обнаружить других себя, более эксцентричных, более честных, открытых и интересных».
Размышляя о своем личном, экзистенциальном переживании музыки и поэзии Боуи, Кричли не менее тонко разбирает его аранжировки и тексты — от ранних, еще достаточно рок-н-ролльных The Man Who Sold the World и, собственно, «Зигги» до «ледяного модернизма» конца 1970-х, где уже слышно влияние Брайана Ино, Терри Райли и особенно немецких краут-роковых групп Neu!, Can, Tangerine Dream и Amon Düül II (тем более что в 1976-м Дэвид и Игги Поп сняли квартиру и поселились в Западном Берлине).
После некоторого разочарования записями и выступлениями 1980-х Кричли с интересом слушает Боуи периода 1990-х — перед тем как вновь пережить катарсис от The Next Day (2013) с его главным синглом Where Are We Now?, клип на который снял американский видеохудожник Тони Оуслер. Еще не зная, что спустя три года Боуи запишет свой последний альбом, а через два дня (10 января 2016) его не станет в живых, Кричли завершает эссе вполне пророческим рассказом о David Bowie Is (2013) — ретроспективе в лондонском Музее Виктории и Альберта:
Кульминация выставки — огромный зал с большим количеством видеоматериала, транслируемого на три стены, в том числе фрагменты выступлений 70-х годов. Народу было битком. К счастью, я нашел, куда сесть, и, просидев минут сорок, досмотрел один цикл и погрузился в следующий целиком. Закончился видеоряд должным образом: записью Rock’n’Roll Suicide, возможно с выступления в Хаммерсмит Одеон в июле 1973-го. Песня доиграла. Зажегся свет. Люди вокруг улыбались. Они просто были счастливы. И это потрясающе. О нет, мой друг, ты не одинок.Я не хочу, чтобы Боуи останавливался. Но это произойдет.
Книга издана при поддержке Британского Совета в рамках Года языка и литературы Великобритании и России 2016.
Об авторе
Саймон Кричли (р. 1960) – английский философ, пишущий об истории философии, политической теории, религии, этике, эстетике, литературе и театре, профессор Новой школы социальных исследований в Нью-Йорке.
garagemca.org
Читать книгу «Книга мертвых философов» онлайн полностью — Саймон Кричли — MyBook.
Simon Critchley
THE BOOK OF DEAD PHILOSOPHERS
Авторская серия Саймона Кричли
Originally published in English by Granta Publications under the title The Book of Dead Philosophers
Copyright © Simon Critchley 2008 Simon Critchley asserts the moral right to be identified as the author of this Work
© Миронов П. В., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017
* * *
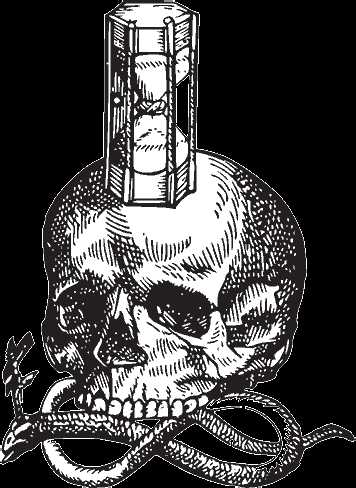
«Эта невероятно приятная для чтения книга наглядно показывает, что атеисты и материалисты уходят в могилу с тем же спокойствием, что и истинно верующие. Автор верит, что мы не можем жить правильно или мирно, пока не согласимся с конечностью своей природы. С его точки зрения, в наше время люди ищут все больше материалистических причин для того, чтобы отвлечься от самой мысли о смерти».
Воскресный выпуск газеты Independent
«Кричли, который, по мнению писателя Тома Маккарти, представляет собой самого острого и точного философа, пишущего на английском языке в наши дни, говорит о серьезных идеях, и делает это с немалым юмором».
London Review of Books
«В свойственной ему провокационной и развлекательной манере… Кричли делится интересными историями как о том, что думали философы о смерти, так и о том, как именно они умирали… Приведенные им описания не ставят целью лишь развлечь нас (хотя, безусловно, им это удается). Кричли полагает, что они призваны бросить вызов устоявшейся концепции философии, согласно которой она представляет собой форму абстрактного концептуального поиска, не имеющего никакой разницы для жизни людей, которые ей занимаются».
Guardian
«Наброски Кричли о жизни и смерти философов, начиная с античных времен… прекрасны, интересны, информативны и наполнены легкостью и юмором».
New Humanist
«Сама тема довольно непроста, однако книга написана с привлекательной легкостью и вниманием к биографическим деталям».
The Philosophers’ Magazine
«Книга Кричли заставит людей интересоваться, почему мы вообще здесь находимся».
Big Issue Cymru
«Сопротивление Кричли аккуратной телеологической истории философских систем вызывает искреннее восхищение».
Frieze
«Кричли рассказывает о смертях своих предшественников как о 190 выплесках энергии, которые, по его мнению „могут помочь нам встать лицом к лицу с реальностью нашей смерти“. Эта книга, представляющая собой своеобразный сборник жизнеописаний, сильно отличается от назидательных томов популярной философии не только степенью доступности информации, но и масштабом охвата».
Sunday Herald
«Задавая важные вопросы, Кричли при этом демонстрирует потрясающий калейдоскоп наиболее примечательных судеб в истории философии».
The List
«Книга, представляющая собой сборник коротких и великолепно написанных эссе примерно о 200 мыслителях, охватывает все основные школы мысли, начиная от классических греческих и китайских ученых и заканчивая христианскими святыми и теоретиками нынешних дней. Обсуждая труды, жизнь и смерть этих людей, Кричли надеется освободить нас от «ужаса аннигиляции», управляющего нашими жизнями и лишающего ее удовольствия… Книга Кричли – вполне интересный первый шаг в познании этого не всегда дружелюбного мира, а энтузиазм автора в отношении философии как практики повседневной жизни – и смерти – не может не увлекать читателя».
San Francisco Chronicle
«Это смелый писатель. Он написал интересную и глубокую книгу, хотя, на первый взгляд, может показаться, что это – лишь сборник острот, отчасти довольно милых».
New York Observer
«Работа, заставляющая философию вновь стать чем-то важным».
Booklist
Введение

Эта книга начинается с простого предположения о том, что в настоящее время в нашем уголке планеты человеческая жизнь определяется не страхом смерти, а невероятно сильным ужасом аннигиляции. Мы боимся неизбежности своей смерти, связанной с ней болью и бессмысленного страдания. Мы боимся того, что в итоге останется в могиле от тела, упакованного в ящик и опущенного в землю с тем, чтобы оно стало кормом для червей.
С одной стороны, мы склонны отрицать факт смерти и погружаться с головой в мир удовольствий, забвения, опьянения и бездумного накопления денег и имущества. С другой стороны, ужас аннигиляции заставляет нас безоговорочно верить в волшебные формы спасения и обещания бессмертия, которые дарят нам различные формы традиционной религии и множество софистов эпохи «Нью-эйдж» (часто базирующихся на довольно старых идеях). Мы пытаемся обрести или временное утешение в форме мгновенного забвения, или чудесное избавление в загробной жизни.
Идеал философской смерти обладает отрезвляющей силой, противостоящей опьяняющему нас желанию бежать и скрываться от этого вопроса. Как пишет Цицерон (это заявление было аксиоматичным для древней философии в целом и находило отклик в последующие эпохи), «философствовать – значит учиться умирать». С этой точки зрения основная задача философии состоит в том, чтобы подготовить нас к смерти, провести своего рода тренировку и сформировать определенное отношение к конечности нашего существования, предполагающего ужас аннигиляции и не обещающего загробной жизни. Монтень пишет об обычае древних египтян, которые приносили на свои пиршества некий образ смерти – обычно человеческий скелет, – а специально обученный человек обращался к участникам: «Пей и возвеселись сердцем, ибо, когда умрешь, ты будешь таким же».
Из этой истории Монтень выводит следующую мораль: «…я приучал себя не только думать о смерти, но и говорить о ней всегда и везде». Таким образом, заниматься философией означает учиться смерти – в словах, которые вы говорите, пище, которую едите, и напитках, которые вы пьете. Именно таким образом мы начинаем противостоять ужасу аннигиляции, поскольку в конечном счете именно страх смерти превращает нас в рабов; он либо ведет к ее временному забвению, либо заставляет мечтать о бессмертии. Как пишет Монтень, «кто научился умирать, тот разучился быть рабом». Это поистине потрясающее заключение: предвидение смерти представляет собой не что иное, как предвидение свободы. Следовательно, попытка избежать смерти означает, что вы остаетесь несвободными и пытаетесь бежать от самих себя. Отрицание смерти – это ненависть к самому себе.
В Античности считалось вполне естественным, что именно философия дает нам мудрость, необходимую для противостояния смерти. Философ смотрит смерти в лицо и имеет достаточно сил, чтобы заявить о том, что она ничего не значит. Одним из первых проповедников подобной философской смерти был Сократ, о котором я детально расскажу ниже. В диалоге Платона «Федон» он утверждает, что философ должен оставаться бодрым даже перед лицом смерти. Но он идет дальше и говорит, что истинные философы превращают умирание в свою профессию. Если человек научился умирать по-философски, то он может относиться к самому факту кончины с должным самоконтролем, безмятежностью и смелостью.
Эта сократовская мудрость находит еще более радикальное выражение несколькими столетиями позднее в стоицизме Сенеки, который пишет: «Если что-то и мешает тебе жить хорошо, то ничто не мешает хорошо умереть». В его представлении философ наслаждается долгой жизнью, поскольку он не беспокоится о ее краткосрочности. Стоицизм пытается учить нас «чему-то великому, высшему и почти небесному», а именно спокойствию и умиротворенности перед лицом смерти.
Сенека знал, о чем говорит. Он был приговорен к смерти Калигулой в 39 году н. э. и был сослан Клавдием по обвинению в связях с племянницей императора в 41 году. Затем, когда он уже стал самой важной интеллектуальной фигурой в римском мире и одним из наиболее влиятельных чиновников, Нерон заставил его совершить самоубийство в 65 году.
Сенека пророчески пишет: «Я знал, в каком бурлящем обществе Природа отвела для меня место. Мне часто доводилось слышать вокруг себя грохот падающих зданий. Многие из тех, с кем я общался на Форуме и в Сенате, с кем вел разговоры по ночам, предпочли разорвать прежние узы дружбы. Стоило ли мне удивляться, что бедствия, до поры, обходившие меня стороной, в какой-то момент настигли и меня?»
И хотя фактически смерть философов не всегда так благородна, как у Сократа, а довольно неприятные обстоятельства неудачного самоубийства Сенеки будут описаны ниже, пока что я хочу защитить сам идеал философской смерти. В мире, где единственная метафизика, в которую верят люди – это либо деньги, либо медицина, и где долголетие считается одним из высших благ, я не могу отрицать, что смерть – это довольно сложный для защиты идеал. Однако я убежден, что философия может научить нас готовности к смерти – без этого любая концепция или любое истинное удовольствие, не говоря уже о счастье, будут иллюзорными. Хотя это и может показаться странным, но единственное, о чем я постоянно думаю и забочусь, описывая эти печальные истории – это смысл и возможность счастья.
Если говорить совсем просто, то эта книга о том, как умирали философы и о том, чему мы можем научиться у философов с точки зрения отношения к смерти и умиранию. Перефразируя эпиграф из книги Монтеня, я пытался создать, «реестр различных видов смерти с соответствующими комментариями». Мне представляется, что, научившись тому, как надо умирать, мы сможем научиться тому, как жить.
Позвольте мне сделать небольшое предостережение относительно формы «Книги мертвых философов». Эта книга представляет собой собрание коротких, иногда очень коротких, рассказов о различных философах и том, как именно они умирали. Зачастую смерть философов привязана к идеям, которые они проповедовали. Некоторые рассказы имеют всего пару строк, а другие представляют собой небольшие эссе (в случае особенно значимых философов или тех, которых я особенно ценю). К примеру, читатель найдет в книге довольно подробные описания жизни и смерти таких личностей, как Сократ, Диоген, Эпикур, Лукреций, Чжуан-цзы, Сенека, Блаженный Августин, Фома Аквинский, Монтень, Декарт, Локк, Спиноза, Юм, Руссо, Гегель, Шопенгауэр и Ницше. Также я уделил большое внимание мыслителям XX века вроде Витгенштейна, Хайдеггера, Айера, Фуко и Деррида. Очерки расположены в хронологическом порядке, начиная от Фалеса, жившего в VI веке до н. э., и заканчивая философами нашего времени. Они разделены на серии глав, отражающих основные эпохи в истории философии. При этом моя хронология не всегда будет точной, а философы не всегда будут рассматриваться в строгой временной последовательности, в частности тогда, когда это не подходит для моих целей.
Я не пытался описывать, как умер каждый значительный философ. Опытный глаз наверняка заметит пробелы, а многие читатели не согласятся с моим выбором героев. Некоторые философы не были включены в эту книгу – либо потому, что я не нашел в их смерти ничего интересного (например, Фреге, Гилберт Райл или Дж. Л. Остин), либо из-за того, что их смерти произошли совсем недавно (как в случае Ричарда Рорти, умершего 8 июня 2007 года, когда я уже завершал эту книгу). Если говорить совсем просто, то я сконцентрировался на философах, показавшихся мне интересными. Однако это уже немало – число моих героев составляет около 190.
Открывая для себя большое количество более и менее значимых фигур в истории западной философии (в том числе удивительно большое количество женщин-философов), читатель найдет в книге и довольно поверхностное описание жизни святых, классических китайских философов, а также средневековых исламских и иудейских философов, среди которых некоторые имели довольно увлекательные взгляды на смерть (и даже умерли вполне примечательной смертью). Статьи о моих героях можно читать или от начала до конца, или в любом другом порядке. Я совершенно не возражаю, если книга будет использоваться для того, чтобы убить время, но надеюсь, что (при чтении с начала до конца) вы сможете увидеть целый ряд сквозных тем, позволяющих понять, каким образом философия может научить человека правильно умирать и (пусть опосредованно) тому, как жить.
Как-то раз Матисса спросили, верит ли он в Бога. Он ответил: «Да, когда я работаю». Давайте просто скажем, что эта книга стала результатом большой работы. Хотя в моих исследованиях использовалось огромное количество литературных источников, я решил не засорять свой текст ссылками. Читателю придется довериться мне. Желающие проследить за моими источниками и узнать что-то новое для себя могут воспользоваться аннотированной библиографией в конце книги. Те же, кто стремится к большему и хочет узнать что-то еще об истории философии и философов, могут обратиться за информацией к последним страницам этого введения.
mybook.ru
«Боуи» читать онлайн книгу автора Саймон Кричли в электронной библиотеке MyBook
Сам не знаю, чего ждал от этой книжки — при том, что к Боуи более-менее равнодушен (нравятся мне два альбома и, может, ещё пяток песен), — но.
Но зато Кричли как-то заразительно и убедительно рассказывает, чем дорог Боуи именно ему — на каком-то глубоком уровне, не вполне даже сознательном. Вот так про Боуи мне никто не рассказывал — всё, мол, гений-инопланетянин-повлиявший-на-всё-великий-etc-etc… А Кричли обходится совершенно без этих эпитетов, просто и честно пишет — увидел Боуи по телевизору в 12 лет и это был первый сексуальный опыт. Это круто, потому что вся эта прекрасная сотонинская рок-музыка, по-моему, может быть гениальна, инопланетна, влиятельна, велика и так далее, но если тебя от неё не колбасит — то как-то она, значит, могла и не существовать. Это первое важное в книжке Кричли.
Второе — он, один из немногих, поднимает больной вопрос искренности и — шире говоря — идентичности в искусстве. И считает, что что от анальной фиксации на этом все беды. В кои веки кто-то разделил эту мысль со мной, а то надоело, чесслово — говоришь людям, что вот это скучно придумано, плохо сыграно, коряво записано и тексты тупые, на уровне пятого класса, и универсальный ответ на это — «зато они искренние!» Ну, класс. Будто бы странные голоса по радио не искренни в своём желании звучать по радио, почему нам должно быть до этого дело-то? Будь ты искренним сколько влезет, но уж играй нормально тогда.
Я вообще не очень понимаю, как можно быть не искренним в искусстве, всё равно же всё, что ты придумал — ты придумал, пусть не на основе исключительно своего опыта. Ну да ладно. Вот Боуи умел быть крутым без всякой искренности — и Кричли это увидел и мне рассказал, это тоже важно (как-то про Боуи в этом разрезе я не думал — просто я о нём вообще мало думал).
Третье — здесь не очень подробно, но наглядно описана работа Боуи вокруг некоторых важных для него идей или понятий (например, «ничто»). И, думаю, Кричли бы написал об этом куда подробнее после «Black star», но кто же знал, что от момента издания книги до нового альбома пройдёт всего полтора года и Дэвид умрёт сразу после его выхода. А ожидание этой пластинки в книжке очень чувствуется.
Так что must read, особенно любителям ДэвидБуя. Интересующимся современной философией тоже пригодится.
А кто не увидел в книжке ничего, кроме нудных личных впечатлений, тот сам дурак и злобное Буратино.
П.С.: иллюстрации и обложка — полное дерьмо, но пусть это вас не отпугивает. С иллюстрациями придётся смириться, а обложку зато можно перекрасить (акрилом, например).
mybook.ru
