Обыкновенная история, отзывы на спектакль, постановка Гоголь-центр – Афиша-Театры
Стоило только перенести действие из XIX века в наш, и вся история, рассказанная в романе Гончарова, буквально ожила. Вообще актуализация классики на сцене (хорошая!) – это прекрасная возможность возродить интерес к произведению и вступить в диалог с автором.
Акценты, которые расставил режиссер Кирилл Серебренников, отличаются от акцентов Гончарова. И вдвойне интересно посмотреть не буквальный пересказ, а собственную интерпретацию режиссера, когда начинают звучать обертона текста.
Начинается с игры на гитаре младшего Адуева, который полон юношеского протеста ко всему тому, что сам потом будет олицетворять, как вы помните. Его собирают в дорогу мать, любимая Соня и друг. Акцент на том, что они из деревни, но не поместья XIX века, а деревни настоящего времени, где ходят в спортивках и выражают эмоции бесхитростно и бурно. Вся сцена белая, сбоку светятся неоновые буквы слова «мама», на главном герое белый свитер с разноцветным жизнерадостным узором у шеи. И вот все его проводили, и сцену начинают разбирать, из под ног забирают последнюю панельку белого же цвета (то есть в метафорическом плане почвы под ногами у героя больше нет) и все погружается во мрак. Оставшееся действие оформлено с помощью черного цвета. На сцене 3 неоновых буквы О очень напоминают объекты современного искусства, которые вполне могли бы выставляться в качестве инсталляции в Гараже, например. Я, кстати, не удивлюсь, если так и было, потому что декорации к спектаклю «Сон в летнюю ночь» перекочевали на сцену прямо с выставки «Тарковский – space» в Галерее на Солянке. Понятно, что три буквы О обозначают в первую очередь трилогию Гончарова, но это еще и знак отсутствия чувств в этом мире, и нули денежные. Такой вот емкий символ находит Серебренников в оформлении сценического пространства. Причем это не просто символ, у него есть и реалистическое объяснение – дядя торгует искусственным светом.
И вот все его проводили, и сцену начинают разбирать, из под ног забирают последнюю панельку белого же цвета (то есть в метафорическом плане почвы под ногами у героя больше нет) и все погружается во мрак. Оставшееся действие оформлено с помощью черного цвета. На сцене 3 неоновых буквы О очень напоминают объекты современного искусства, которые вполне могли бы выставляться в качестве инсталляции в Гараже, например. Я, кстати, не удивлюсь, если так и было, потому что декорации к спектаклю «Сон в летнюю ночь» перекочевали на сцену прямо с выставки «Тарковский – space» в Галерее на Солянке. Понятно, что три буквы О обозначают в первую очередь трилогию Гончарова, но это еще и знак отсутствия чувств в этом мире, и нули денежные. Такой вот емкий символ находит Серебренников в оформлении сценического пространства. Причем это не просто символ, у него есть и реалистическое объяснение – дядя торгует искусственным светом.
За исключением этого факта и вставок типа «а ты часом не пидор?», когда Адуев постоянно лезет обниматься, первый акт проходит полностью по сценарию романа.
Саша влюбляется, а потом страдает от любви, пишет глупые стихи, а дядя учит Сашу пить и развенчивает «идеалы бобра» (шутейка).
Во втором акте Серебренников уходит от романа и дополняет его вполне реалистичным развитием жизни Саши, как бы пишет свой фанфик. Он сводит его со старухой, которой нужно вскружить голову, чтобы она не мешала бизнесу. Естественно, в голову сразу приходит аналогия с Галкиным и Пугачевой😩
Картина совсем мрачная. Звучит проклятие городу. Тоже в стихах, но уже без всякой иронии, а наоборот, с кульминационным пафосом. Именно Москва становится виновата в том, что прививаются ложные идеалы. Саша кричит: «Я понимаю, что это ложь, но это какая-то железная ложь, я ничего не могу с ней поделать». Из-за этого акцента, поставленного Серебренниковым, история из романа о взрослении превращается в историю типа трагедии Есенина или, если кто любит попроще, типа фильма «Гламур» Кончаловского или книги «Духless» Минаева.
Три О в какой-то момент выстраиваются в слово Moscow, где M – знак метро, а S – знак доллара на табло в обменнике, они подавляют своей монументальностью маленькую надпись «мама», которую выносит мать. Она начинает голосить в лучших фольклорных традициях, на что Саша ей отвечает: «Что ты меня оплакиваешь, как будто я умер? Я позвоню тебе». И она говорит: «Да как же ты мне позвонишь, я же умерла!» Все настоящее, все олицетворяющее любовь умирает: его мать и жена дяди Лиза. Умер и старый Саша, полный надежд на светлое будущее, поэтому не зря оплакивала его мать и не зря звучала песенка, еще только когда он попал в Москву: «Ты носишь имя будто жив. Но ты мертв».Его блеск в глазах, которого «было много», заменил свет неона.
Она начинает голосить в лучших фольклорных традициях, на что Саша ей отвечает: «Что ты меня оплакиваешь, как будто я умер? Я позвоню тебе». И она говорит: «Да как же ты мне позвонишь, я же умерла!» Все настоящее, все олицетворяющее любовь умирает: его мать и жена дяди Лиза. Умер и старый Саша, полный надежд на светлое будущее, поэтому не зря оплакивала его мать и не зря звучала песенка, еще только когда он попал в Москву: «Ты носишь имя будто жив. Но ты мертв».Его блеск в глазах, которого «было много», заменил свет неона.
Можно было бы подумать в сложившейся ситуации: зря он уехал в Москву, надо было остаться в деревне. Но Серебренников эту мысль отклоняет, показывая, как обстоят дела в этой самой деревне, куда Саша приезжает на похороны матери. Его первая любовь Соня торгует искусственными цветами так же, как дядя Петя торгует искусственным светом. Я думаю, мотив искусственности объединяет эти два мира, где настоящему нет места.
Интересно также сопоставить два монолога – монолог мужа Сони Вити, который крадет цветы с кладбища и удивляется, зачем они вообще там нужны, ведь мертвым и без них хорошо, и монолог Лизы перед смертью, которая говорит о том же самом: «Наконец-то мне стало так легко и ничего уже не надо».
К чему я веду? И к чему, как мне кажется, ведет Серебренников? Это становится понятно в финальной сцене. Появляется практически неузнаваемый Александр, весь в черном, прихрамывающий, с зализанными волосами и вставными зубами и дядя в солнцезащитных очках. Сидят у гроба Лизы (цветы, кстати, те же, что и у матери – белые голландцы). Саша предлагает дяде стать его замом, так как он теперь министр света. Он даже придумал девиз, рекламный слоган: «Лучше нету того света». Естественно, это игра слов, из которых мы можем сделать вывод, что и жизнь в деревне, и жизнь в городе, а значит, жизнь сама по себе не терпит ничего настоящего, убивает и перемалывает все зачатки искренних чувств и смеется над идеалами добра, превращая их в идеалы бобра. И это уже не весело, это и вправду страшно. На том свете лучше.
Дядя в очках тоже не случайно. Он как бы не может больше видеть этот искренний свет, потому что он забрал у него любовь – Лизу. И признает, что был слепым.
Последним аккордом спектакля становится дорожка огня, пущенная прямо по столу, за которым сидят герои. В физическом плане так, видимо, показана кремация тела Лизы, а в метафизическом – это очистительное пламя. Его теплое рыжее мерцание такое живое по сравнению с мертвенным холодным блеском неона. И зрители завороженно смотрят, как все горит синим пламенем в прямом и переносном смысле. И музыка фортепиано делает концовку скорее лиричной, чем страшной.
В физическом плане так, видимо, показана кремация тела Лизы, а в метафизическом – это очистительное пламя. Его теплое рыжее мерцание такое живое по сравнению с мертвенным холодным блеском неона. И зрители завороженно смотрят, как все горит синим пламенем в прямом и переносном смысле. И музыка фортепиано делает концовку скорее лиричной, чем страшной.
Во всей истории, рассказанной в спектакле, выходит, что нет виноватых людей, виновата среда, которая определяет сознание, виновата Москва и виноват «жестокий век» — других, не жестоких, похоже, на этом свете и не бывает.
Все отзывы о спектакле «Обыкновенная история» – Афиша-Театры
Стоило только перенести действие из XIX века в наш, и вся история, рассказанная в романе Гончарова, буквально ожила. Вообще актуализация классики на сцене (хорошая!) – это прекрасная возможность возродить интерес к произведению и вступить в диалог с автором.
Акценты, которые расставил режиссер Кирилл Серебренников, отличаются от акцентов Гончарова. И вдвойне интересно посмотреть не буквальный пересказ, а собственную интерпретацию режиссера, когда начинают звучать обертона текста.
И вдвойне интересно посмотреть не буквальный пересказ, а собственную интерпретацию режиссера, когда начинают звучать обертона текста.
Начинается с игры на гитаре младшего Адуева, который полон юношеского протеста ко всему тому, что сам потом будет олицетворять, как вы помните. Его собирают в дорогу мать, любимая Соня и друг. Акцент на том, что они из деревни, но не поместья XIX века, а деревни настоящего времени, где ходят в спортивках и выражают эмоции бесхитростно и бурно. Вся сцена белая, сбоку светятся неоновые буквы слова «мама», на главном герое белый свитер с разноцветным жизнерадостным узором у шеи. И вот все его проводили, и сцену начинают разбирать, из под ног забирают последнюю панельку белого же цвета (то есть в метафорическом плане почвы под ногами у героя больше нет) и все погружается во мрак. Оставшееся действие оформлено с помощью черного цвета. На сцене 3 неоновых буквы О очень напоминают объекты современного искусства, которые вполне могли бы выставляться в качестве инсталляции в Гараже, например. Я, кстати, не удивлюсь, если так и было, потому что декорации к спектаклю «Сон в летнюю ночь» перекочевали на сцену прямо с выставки «Тарковский – space» в Галерее на Солянке. Понятно, что три буквы О обозначают в первую очередь трилогию Гончарова, но это еще и знак отсутствия чувств в этом мире, и нули денежные. Такой вот емкий символ находит Серебренников в оформлении сценического пространства. Причем это не просто символ, у него есть и реалистическое объяснение – дядя торгует искусственным светом.
Я, кстати, не удивлюсь, если так и было, потому что декорации к спектаклю «Сон в летнюю ночь» перекочевали на сцену прямо с выставки «Тарковский – space» в Галерее на Солянке. Понятно, что три буквы О обозначают в первую очередь трилогию Гончарова, но это еще и знак отсутствия чувств в этом мире, и нули денежные. Такой вот емкий символ находит Серебренников в оформлении сценического пространства. Причем это не просто символ, у него есть и реалистическое объяснение – дядя торгует искусственным светом.
За исключением этого факта и вставок типа «а ты часом не пидор?», когда Адуев постоянно лезет обниматься, первый акт проходит полностью по сценарию романа.
Саша влюбляется, а потом страдает от любви, пишет глупые стихи, а дядя учит Сашу пить и развенчивает «идеалы бобра» (шутейка).
Во втором акте Серебренников уходит от романа и дополняет его вполне реалистичным развитием жизни Саши, как бы пишет свой фанфик. Он сводит его со старухой, которой нужно вскружить голову, чтобы она не мешала бизнесу. Естественно, в голову сразу приходит аналогия с Галкиным и Пугачевой😩
Естественно, в голову сразу приходит аналогия с Галкиным и Пугачевой😩
Картина совсем мрачная. Звучит проклятие городу. Тоже в стихах, но уже без всякой иронии, а наоборот, с кульминационным пафосом. Именно Москва становится виновата в том, что прививаются ложные идеалы. Саша кричит: «Я понимаю, что это ложь, но это какая-то железная ложь, я ничего не могу с ней поделать». Из-за этого акцента, поставленного Серебренниковым, история из романа о взрослении превращается в историю типа трагедии Есенина или, если кто любит попроще, типа фильма «Гламур» Кончаловского или книги «Духless» Минаева.
Три О в какой-то момент выстраиваются в слово Moscow, где M – знак метро, а S – знак доллара на табло в обменнике, они подавляют своей монументальностью маленькую надпись «мама», которую выносит мать. Она начинает голосить в лучших фольклорных традициях, на что Саша ей отвечает: «Что ты меня оплакиваешь, как будто я умер? Я позвоню тебе». И она говорит: «Да как же ты мне позвонишь, я же умерла!» Все настоящее, все олицетворяющее любовь умирает: его мать и жена дяди Лиза. Умер и старый Саша, полный надежд на светлое будущее, поэтому не зря оплакивала его мать и не зря звучала песенка, еще только когда он попал в Москву: «Ты носишь имя будто жив. Но ты мертв».Его блеск в глазах, которого «было много», заменил свет неона.
Умер и старый Саша, полный надежд на светлое будущее, поэтому не зря оплакивала его мать и не зря звучала песенка, еще только когда он попал в Москву: «Ты носишь имя будто жив. Но ты мертв».Его блеск в глазах, которого «было много», заменил свет неона.
Можно было бы подумать в сложившейся ситуации: зря он уехал в Москву, надо было остаться в деревне. Но Серебренников эту мысль отклоняет, показывая, как обстоят дела в этой самой деревне, куда Саша приезжает на похороны матери. Его первая любовь Соня торгует искусственными цветами так же, как дядя Петя торгует искусственным светом. Я думаю, мотив искусственности объединяет эти два мира, где настоящему нет места.
Интересно также сопоставить два монолога – монолог мужа Сони Вити, который крадет цветы с кладбища и удивляется, зачем они вообще там нужны, ведь мертвым и без них хорошо, и монолог Лизы перед смертью, которая говорит о том же самом: «Наконец-то мне стало так легко и ничего уже не надо».
К чему я веду? И к чему, как мне кажется, ведет Серебренников? Это становится понятно в финальной сцене. Появляется практически неузнаваемый Александр, весь в черном, прихрамывающий, с зализанными волосами и вставными зубами и дядя в солнцезащитных очках. Сидят у гроба Лизы (цветы, кстати, те же, что и у матери – белые голландцы). Саша предлагает дяде стать его замом, так как он теперь министр света. Он даже придумал девиз, рекламный слоган: «Лучше нету того света». Естественно, это игра слов, из которых мы можем сделать вывод, что и жизнь в деревне, и жизнь в городе, а значит, жизнь сама по себе не терпит ничего настоящего, убивает и перемалывает все зачатки искренних чувств и смеется над идеалами добра, превращая их в идеалы бобра. И это уже не весело, это и вправду страшно. На том свете лучше.
Появляется практически неузнаваемый Александр, весь в черном, прихрамывающий, с зализанными волосами и вставными зубами и дядя в солнцезащитных очках. Сидят у гроба Лизы (цветы, кстати, те же, что и у матери – белые голландцы). Саша предлагает дяде стать его замом, так как он теперь министр света. Он даже придумал девиз, рекламный слоган: «Лучше нету того света». Естественно, это игра слов, из которых мы можем сделать вывод, что и жизнь в деревне, и жизнь в городе, а значит, жизнь сама по себе не терпит ничего настоящего, убивает и перемалывает все зачатки искренних чувств и смеется над идеалами добра, превращая их в идеалы бобра. И это уже не весело, это и вправду страшно. На том свете лучше.
Дядя в очках тоже не случайно. Он как бы не может больше видеть этот искренний свет, потому что он забрал у него любовь – Лизу. И признает, что был слепым.
Последним аккордом спектакля становится дорожка огня, пущенная прямо по столу, за которым сидят герои. В физическом плане так, видимо, показана кремация тела Лизы, а в метафизическом – это очистительное пламя. Его теплое рыжее мерцание такое живое по сравнению с мертвенным холодным блеском неона. И зрители завороженно смотрят, как все горит синим пламенем в прямом и переносном смысле. И музыка фортепиано делает концовку скорее лиричной, чем страшной.
Его теплое рыжее мерцание такое живое по сравнению с мертвенным холодным блеском неона. И зрители завороженно смотрят, как все горит синим пламенем в прямом и переносном смысле. И музыка фортепиано делает концовку скорее лиричной, чем страшной.
Во всей истории, рассказанной в спектакле, выходит, что нет виноватых людей, виновата среда, которая определяет сознание, виновата Москва и виноват «жестокий век» — других, не жестоких, похоже, на этом свете и не бывает.
Билеты на спектакль «Обыкновенная история» в театре «Гоголь-центр».
16+
Обыкновенная история
По роману Ивана Гончарова
Режиссер, художник, автор инсценировки — Кирилл Серебренников
Художник по свету — Игорь Капустин
Ассистент художника по костюмам — Максим Назаров
Видеохудожник — Илья Шагалов
Звукорежиссеры: Антон Фешин, Станислав Перевезенцев
Спецэффекты — Александр Елисеенков
Действующие лица и исполнители:
Саша Адуев — Филипп Авдеев
Петр Иванович Адуев — Алексей Агранович
Мама Саши, Марья Михайловна Любецкая — Светлана Брагарник
Юлия Тафаева — Ольга Науменко
Лиза — Екатерина Стеблина / Светлана Мамрешева
Соня — Мария Селезнева
Надя Любецкая — Яна Иртеньева / Александра Ревенко
Виктор, Князь — Иван Фоминов
и другие.

Кирилл Серебренников: «У русской классической литературы страшная судьба: она ссылается в школу, в школьную программу и становится любимым материалом для ТЮЗов. Но во второй половине XIX века, когда «Обыкновенная история» вышла, она была одним из самых полемичных и ярких романов, самых обсуждаемых и вызывала такие же острые дискуссии, как те, что проходят сейчас вокруг книг Владимира Сорокина или Захара Прилепина. Словом, это была сильная по своему воздействию литература. Хотелось бы, чтобы у нас она прозвучала на таком же уровне остроты и полемичности».
Молодой и восторженный Александр Адуев приезжает в Петербург из провинции, готовый покорить весь мир. Очень скоро все его идеалы оказываются растоптаны, а сам он повторяет судьбу своего практичного и бесстрастного дяди Петра. Чем эта история обернулась бы в XXI веке? Каким Адуев был бы сегодня? Что изменилось в российской жизни за 150 лет?
Продолжительность спектакля — два часа 40 минут с одним антрактом.
Купить билеты на спектакль «Обыкновенная история» можно на сайте redkassa.
Онлайны “Гоголь-центра” продолжат спектакли Серебренникова и концерт
Воскресные показы ГЦ продолжатся 17 мая спектаклем Кирилла Серебренникова “Обыкновенная история”.
“Гоголь-центр” анонсировал программу онлайн-трансляций до конца мая. Напомним, проект “Гоголь-Online” стартовал 25 марта – первым был показан спектакль-концерт “Наша Алла”, придуманный и поставленный Кириллом Серебренниковым. Впоследствии ГЦ пришёл к постоянному графику трансляций: показ проводится в воскресенье в 20:00 по московскому времени, а на следующий день в 15:00 проходит повтор. Трансляции проходят только в режиме реального времени на всех интернет-платформах “Гоголь-центра” – на сайте театра, на YouTube-канале и в соцсетях (Facebook, Instagram).
17 мая в 20:00 и 18 мая в 15:00 “Гоголь-центр” покажет спектакль Кирилла Серебренникова “Обыкновенная история”. В основе – пьеса Серебренникова по одноимённому роману Ивана Гончарова.
Серебренников “транспонировал” реальность Петербурга 19 века в современную Москву (именуемую в тексте, впрочем, только “городом”). “Сюжет Гончарова про Сашу Адуева актуален и в 19 веке, и в 20-ом, и в 21-м, – рассказывал Кирилл Серебренников в тексте о спектакле, опубликованном ГЦ в 2019 году. – Ничего не поменялось. В пьесе я просто перевёл этот роман с языка 19 века на язык 21 века, сохранив практически все сюжетные линии, героев, смыслы, принцип отношений, просто буквально выступил переводчиком с одного русского языка на другой русский язык. (…) “Обыкновенная история” – роман про инициацию, физиологический очерк о расчеловечивании, о дегуманизации. Саша Адуев – не герой нашего времени, он и есть время. Это не исключительный характер, который свойственен какому-то этапу, какой-то эпохе.
Первые показы (“открытые репетиции”) “Обыкновенной истории” прошли 14 и 15 ноября 2014 года в рамках проекта “Платформа” на “Винзаводе”, премьера спектакля прошла 12 марта 2015 года – уже в “Гоголь-центре”.
Главные роли – Саши и Петра Адуевых – играют Филипп Авдеев и Алексей Агранович соответственно. Для Аграновича эта работа стала дебютом на сцене ГЦ – впоследствии к “Обыкновенной истории” прибавились “Маленькие трагедии” Кирилла Серебренникова; кроме того, он принимал участие в сыгранном один раз спектакле “Похороны Сталина” (запись этой постановки Серебренникова уже была показана в числе карантинных трансляций). Также в спектакле заняты Светлана Брагарник, Ольга Науменко, Екатерина Стеблина, Яна Иртеньева, Мария Селезнёва, Иван Фоминов, Евгений Харитонов, Андрей Поляков.
Важной частью действия стал вокальный цикл “Пять коротких откровений”, написанный Александром Маноцковым на текст Откровения Иоанна Богослова, для двух сопрано, низкого академического женского вокала, фортепиано и любительского синтезатора.
24 мая в 20:00 и 25 мая в 15:00 “Гоголь-центр” покажет спектакль Кирилла Серебренникова “Кафка”. В основе – написанная по заказу режиссёра пьеса Валерия Печейкина.
Премьерой “Кафки”, которая прошла 29 и 30 июня 2016 года, “Гоголь-центр” закрыл сезон 2015-2016.
“Мне в спектакле “Кафка” хотелось эстетики кино, подлинности в деталях…” – рассказывал Кирилл Серебренников в тексте “Эффект Кафки”, опубликованном в 2019 году, и описывал первую сцену-пролог спектакля (в пьесе она называется “Кастинг голоса Кафки”): “…Идёт поиск голоса Кафки, мы ищем голос Кафки, каким голосом он будет говорить. Лицо Кафки – на экране, артистам надо попасть в его артикуляцию… Мне нравится использовать идею расщепления голоса и тела, звука и изображения – в этом есть источник энергии… Деконструкция человека на голос и тело, на плоть и душу даёт возможность понять, из чего он по-настоящему состоит. Только в театре и поэзии человека можно разобрать на запчасти, а потом собрать в нечто другое…”.
Заглавную роль сыграл Семён Штейнберг. Кроме него, в спектакле заняты Один Байрон (после приглашения в этот спектакль актёр вернулся в “Гоголь-центр” и вообще в Россию), Евгений Харитонов, Никита Кукушкин, Рита Крон, Светлана Мамрешева, Ирина Выборнова, Олег Гущин, Евгений Сангаджиев, Антон Васильев, Сергей Галахов, Ирина Брагина, Юлия Лобода и Марат Домански, а также Андрей Поляков, Дмитрий Жук и Игорь Гореликов.
31 мая в 20:00 и 1 июня в 15:00 театр покажет запись концерта “7 лет. День рождения ГЦ”, который прошёл 2 февраля 2020 года.
Традиционный концерт ко дню рождения театра проходит в ГЦ 2 февраля в закрытом формате – на него приглашаются гости из числа резидентов и друзей театра, а в последние несколько лет и ограниченное число зрителей (например, по итогам розыгрыша в соцсетях). Тем не менее, эти закрытые праздники и устраиваемые силами актёров ГЦ и приглашённых артистов для большинства зрителей становились доступными лишь в виде коротких видеофрагментов – отдельных номеров, которые “Гоголь-центр” публиковал на своём YouTube-канале.
Концерт “7 лет. День рождения ГЦ” примечателен не только тем, что является самым новым – последним по счёту – празднованием дня рождения театра. Ведущим вечера был Кирилл Серебренников (а также Александр Гудков) – два предыдущих именинных концерта, включая первый юбилей театра, худрук ГЦ пропустил из-за полуторагодичного домашнего ареста.
На видео ниже – единственный на сегодня опубликованный фрагмент этого концерта: двойной кавер на песни Eurythmics и Rammstein исполняют актёр ГЦ Александр Горчилин и солистка Пермской оперы (а также участница спектакля Кирилла Серебренникова “Барокко” в “Гоголь-центре”) Надежда Павлова.
«Обыкновенная история» стала сенсацией «Гоголь-Центра»
Замечательный русский писатель Гончаров, всего одним романом входивший в программу советской школы, как никто пришелся к нашему времени.
В инсценировке Серебренникова сюжетная линия не изменена вовсе — из пункта «А» (одна деревня российской губернии) вышел мальчик Саша Адуев (с гитарой, идеалами и мечтами) в пункт «Б» — российскую столицу с чистыми намерениями покорить неприступную своим талантом. Там живет его дядя Петр Иванович Адуев, дельный, солидный, но весьма циничный господин, окатывающий разгоряченного племянничка своей трезвостью, как холодным душем. Столкновение юношеского идеализма и умудренного опытом цинизма — главный конфликт романа Гончарова, неизменнен во все времена. Только наше время придало ему особую остроту и жестокость.
Из досье «МК»: свой первый роман «Обыкновенная история» Иван Гончаров написал в возрасте 35 лет и был опубликован в журнале «Современник».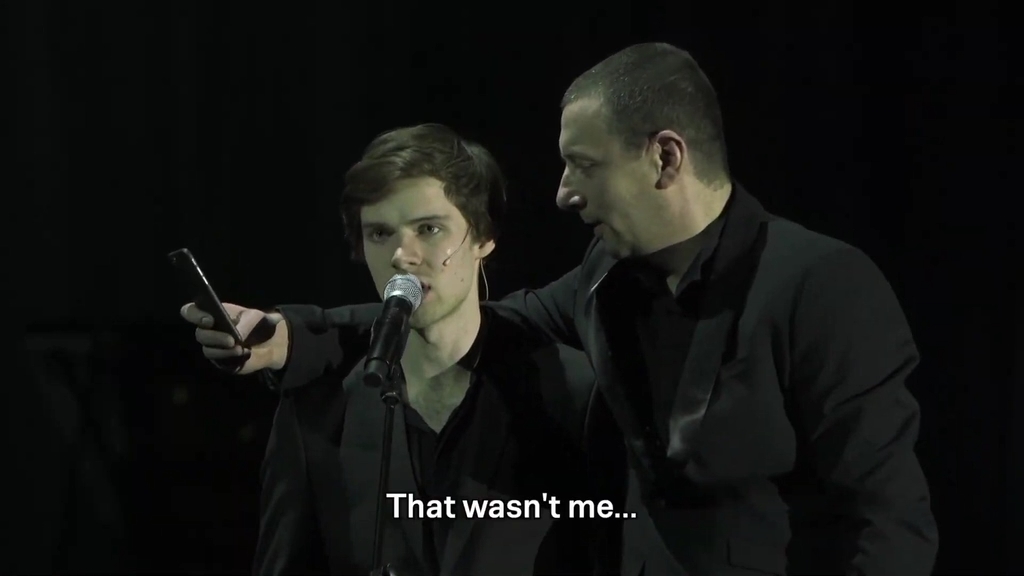 Его часто сравнивали с романом «Отцы и дети». Имеет удачную сценическую судьбу: «Обыкновенная история» 1970-го года в постановке Галины Волчек получила государственную премию, а Олег Табаков (Адуев-младший) и Михаил Казаков (Адуев-старший) считались эталонными исполнителями этих ролей. Именно Табакову, который в этом году отмечает юбилей, Кирилл Серебренников посвящает свой спектакль.
Его часто сравнивали с романом «Отцы и дети». Имеет удачную сценическую судьбу: «Обыкновенная история» 1970-го года в постановке Галины Волчек получила государственную премию, а Олег Табаков (Адуев-младший) и Михаил Казаков (Адуев-старший) считались эталонными исполнителями этих ролей. Именно Табакову, который в этом году отмечает юбилей, Кирилл Серебренников посвящает свой спектакль.
На сцене — только свет и тень в прямом смысле слова: успешный и богатый Адуев-старший оказался монополистом на рынке светового оборудования. Оно же становится декорацией: три гигантские буквы «О» бьют в зал холодным неоном и в различных комбинациях разбивают мрачноватое пространство. Тот редкий случай, когда сценографическое решение становятся выразительнейшей метафорой (свет и тень, черное и белое), продолжающейся в костюмах (автор — сам Серебренников). Монохром скучноватый, но стильный у Серебренникова настолько богат смысловыми оттенками (больше 50-ти?), которые позволяют избежать плоских ответов на плоские вопросы: кто хорош/плох? кто прав/неправ? и какие ценности нынче в ходу?
В «Обыкновенной истории» режиссер не стал отвечать на, как выясняется, обыкновенные вопросы: с помощью Гончарова он рассмотрел время и поколения, пожившие или родившиеся в Новой России. Один прошел тяжкие круги российского бизнеса (от малиновых пиджаков до дорогущих от Франческо Смалто или Патрика Хельмана), без лирики, циничен, эффекттивен, умен как черт, но ум почему-то приносит свою порцию горя. Его антипод — милый поэт-губошлеп, порывист, но инфантилен и с атрафированым чувством ответственности. Свои симпатии режиссер не скрывает — они на стороне Адуева-старшего. Серьезное исследование, похожее на дуэль с печальным концом — никто не убит, но живые, точно трупы дядя с племянником сидят на кладбищенской скамейки и мертвыми глазами смотрят в зал.
Один прошел тяжкие круги российского бизнеса (от малиновых пиджаков до дорогущих от Франческо Смалто или Патрика Хельмана), без лирики, циничен, эффекттивен, умен как черт, но ум почему-то приносит свою порцию горя. Его антипод — милый поэт-губошлеп, порывист, но инфантилен и с атрафированым чувством ответственности. Свои симпатии режиссер не скрывает — они на стороне Адуева-старшего. Серьезное исследование, похожее на дуэль с печальным концом — никто не убит, но живые, точно трупы дядя с племянником сидят на кладбищенской скамейки и мертвыми глазами смотрят в зал.
Интерес к почти трехчасовой дуэли (зал не дышит) обусловлен игрой актеров. В роли Адуева-младшего Филипп Авдеев, а вот в роли его дядюшки совершенно неожиданно для всех выступил Алексей Агранович, которого в Москве знают прежде всего как владельца собственной компании, продюсера, постановщика церемоний открытия Московского кинофестиваля. Удивительно, но именно Агранович, его игра придают действию особую достоверность, и в результитате делают спектакль Серебренникова более чем успешным. Не раскрашенная в черно-белые тона картинка, а глубокий портрет поколений на фоне времени. Кажется, что Агранович даже не играет в предлагаемых обстоятельствах, а существует в них, поскольку они привычны для него. Пожив и поварившись в постперестроечной мясорубке, похоже, он готов подписаться под многими текстами Гончарова. Интервью с актером после спектакля.
Не раскрашенная в черно-белые тона картинка, а глубокий портрет поколений на фоне времени. Кажется, что Агранович даже не играет в предлагаемых обстоятельствах, а существует в них, поскольку они привычны для него. Пожив и поварившись в постперестроечной мясорубке, похоже, он готов подписаться под многими текстами Гончарова. Интервью с актером после спектакля.
— Алексей, мне кажется или действительно вы так хорошо знаете бизнес-среду, о которой идет речь в спектакле?
— Я знаю эту драму и в самом себе. Деньги — да, важная вещь, но мне знакома драма человека, который убедил себя в том, что ему не даны от Бога уникальные способности, и он стал замещать природу здравым смыслом и эффективностью. Жизнь — жестокая вещь, ты постоянно становишься перед выбором, который касается не только работы, но и личной жизни.
— Все-таки, внесите ясность: у вас есть актерское образование? У вас замечательная сценическая речь, так легко чувствуете себя на сцене.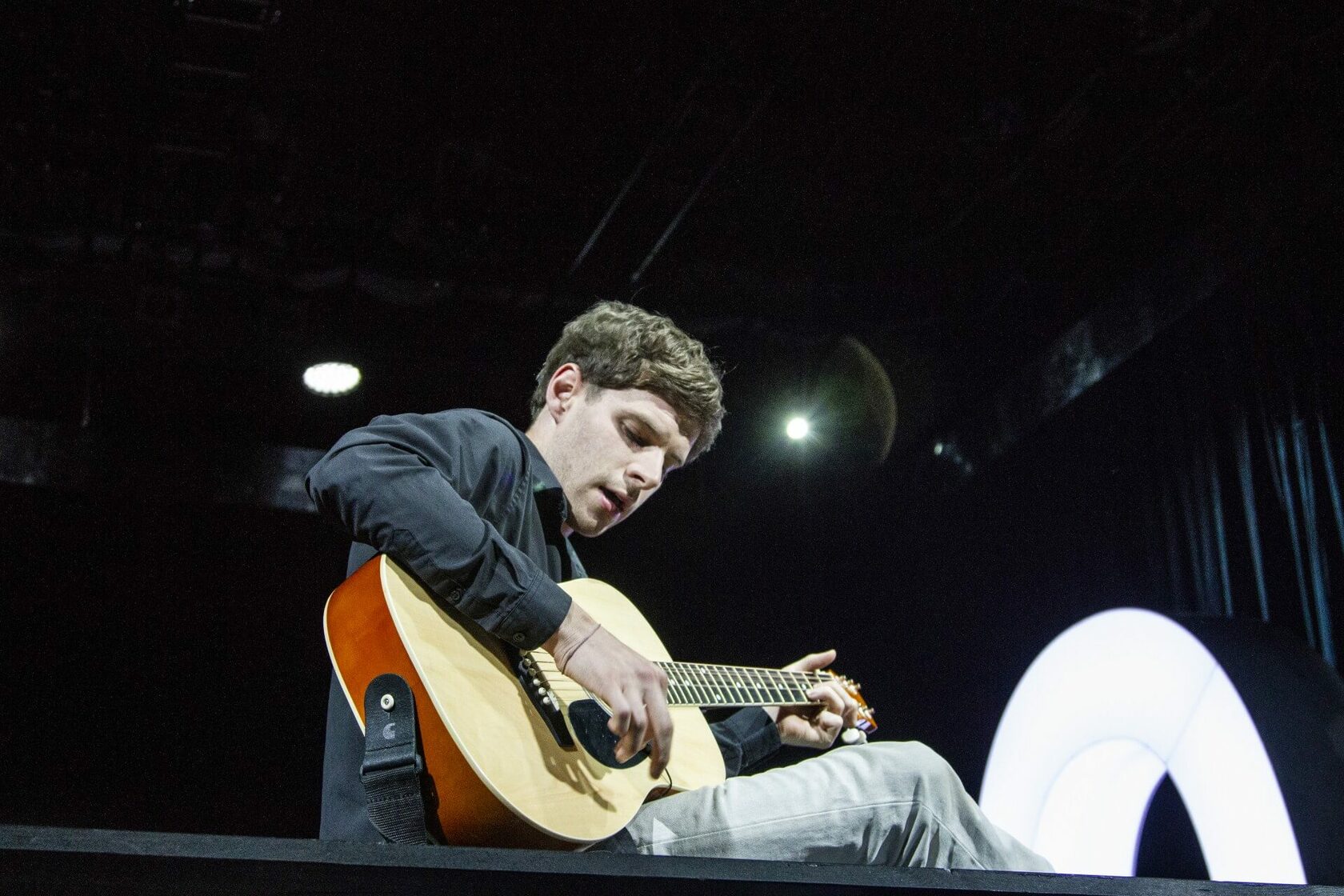
— Меня отчислили с третьего курса ВГИКа, я учился у Альберта Филозова. Играл в спектакле «Чайка», немного поработал у Трушкина, но это было 20 лет назад, и с тех пор в драме я не играл.
— А как же вы попали в эту необыкновенную для вас историю?
— С Кириллом Серебренников я встречался в разных компаниях. И он меня как-то спросил, не знаю ли я артиста такого-то возраста, с такими качествами — в общем, описал меня. Я назвал ему нескольких, он сказал, что знает, но что-то там не получается. «А ты сам попробовать не хочешь?» — спросил он. Я задумался, я не был уверен в себе и он не был уверен во мне. Но потом я решил, что от таких предложений не отказываются. У меня до сих пор ощущение, что я оказался в плохой/хорошей американской драме.
— Видели записи того легендарного спектакля с Казаковым и Табаковым?
— Нет, больше скажу, я и роман до этого не читал. Смотреть боялся, теперь, когда уже сыграли, посмотр..
— А вы-то сами как для себя решаете дилему: убийственный цинизм или безответственный идеализм?
— Тут правды нет никакой. В каждом из нас живет два Адуевых и оставаться одним из них в чистом виде, значит, быть или идиотом или законченным циником. Надо доверяться Богу, судьбе — делай что должно, и будь что будет. Для меня в этом спектакле очень важен финал, который придумал Кирилл — это такой реквием по исчезающему человеческому виду. Пришли новые люди, но… мы же их сами вырастили. В ничто всё превращается — в этом главная заслуга и высказывание Кирилла.
В каждом из нас живет два Адуевых и оставаться одним из них в чистом виде, значит, быть или идиотом или законченным циником. Надо доверяться Богу, судьбе — делай что должно, и будь что будет. Для меня в этом спектакле очень важен финал, который придумал Кирилл — это такой реквием по исчезающему человеческому виду. Пришли новые люди, но… мы же их сами вырастили. В ничто всё превращается — в этом главная заслуга и высказывание Кирилла.
В «Обыкновенной истории» заняты, как это часто бывает у Серебренникова, новое поколение (замечательный Филипп Авдеев, Екатерина Стеблина) и актеры бывшей труппы театра Гоголя — Светлана Брагарник (у нее две роли) и Ольга Науменко (невеста Жени Лукашина из «Иронии судьбы»). Надо сказать, что последняя имеет по сути один выход (не считая пения в трио на заднем плане), но один выход дорогого стоит.
Рецензия на спектакль «Обыкновенная история», Гоголь-центр. Жил-был мальчик
Рецензия на спектакль «Обыкновенная история», Гоголь-центр.
 Жил-был мальчик
Жил-был мальчикВряд ли на эту «Обыкновенную историю» стоит вести школьников с благой целью знакомства с классикой. Не потому что спектакль им не понравится (скорее, наоборот), а потому что к классическому тексту Гончарова он имеет весьма отдаленное отношение.
Кирилл Серебренников не только перенёс действие романа из XIX века в наше время, но и сам текст переписал и изменил. Нет, герои все те же. Саша Адуев, восторженный двадцатилетний «вьюноша» из провинции всё также собирается покорять столицу. Разумеется, с гитарой и мечтой изменить этот мир, который прогнется, а город будет «под подошвой».
Но столица, как водится, слезам не верит и блеск в глазах если и сохраняет, то только благодаря кокаину. Не изменишься – не выживешь. Филиппу Авдееву эта трансформация удаётся (хотя, а что ему не удается?), с азартом наблюдаешь, как из наивного мальчика он превращается в беспринципного хлыща-чиновника со стеклянным взглядом.
Весь столичный цинизм материализуется (опять же по тексту классика) в лице дяди — Петра Адуева. Он успешен, беспринципен и точен в своих определениях и прогнозах. Он «отвечает за свет» буквально – продает неоновую рекламу. И может, конечно, Алексей Агранович не самый главный актёр нынешнего времени, но харизмы его хватает на весь спектакль (и зал), очень уж он органичен и убедителен в роли «учителя жизни». Дядя разбивает Сашину гитару, смеётся над его влюбленностью (сначала в Соню, потом в Надю), предсказывает всё, что случится с юношескими идеалами, друзьями, женщинами. Себя только до конца не может предсказать в этой матрице – и его горе, его настоящие слёзы по умершей жене в финале ещё сильнее оттеняют все метаморфозы, произошедшие с племянником. Получилось, что весь спектакль мы невольно (и может, вопреки первоисточнику) симпатизируем не инфантильному и безответственному Сашеньке, а именно дяде, Петру Ивановичу.
Отдельно хочется сказать про Маму, ее играет народная артистка Светлана Брагарник, одна из немногих оставшихся в труппе ГЦ после прихода туда Серебренникова в 2013 году. Все ее монологи и наставления сыну, сборы сумок и письмо дядюшке – она нелепая, занудная, узнаваемая, трогательная. Может поэтому так пронзительно звучит ее «сынок, как же ты мне позвонишь, если я уже умерла?».
Все ее монологи и наставления сыну, сборы сумок и письмо дядюшке – она нелепая, занудная, узнаваемая, трогательная. Может поэтому так пронзительно звучит ее «сынок, как же ты мне позвонишь, если я уже умерла?».
Не знаю, уместно ли, говоря о театральной постановке, использовать определение «стильный», но уж очень хочется. Костюмы («50 оттенков чёрного», не иначе), свет, лаконичные декорации (огромные неоновые буквы-трансформеры – то, что врезается в память с первого взгляда). И знак «М» как символ не только метро, но и столичных скоростей. И миражей.
Смотришь и понимаешь, что лучше и безнадежнее истории про нашу обыкновенную жизнь тебе давно не рассказывали. Как заметил кто-то из зрителей в антракте:
В десятиминутной сцене с кладбищенскими цветами уместилось всё, что можно сказать о жизни в российской провинции в 2018 году.
Сквозь иронию, гротеск, плохенькие песни Сашиного сочинения и мрачные речитативы женского трио в глубине сцены, Серебренников (оглядываясь на Гончарова), задаёт вечные вопросы. Это город меняет восторженных на циничных? Или возраст? Время? Обстоятельства? И кто из них этих двоих Адуевых прав, кто честнее, кто выживет?
Это город меняет восторженных на циничных? Или возраст? Время? Обстоятельства? И кто из них этих двоих Адуевых прав, кто честнее, кто выживет?
Осторожным неофитам не стоит бояться «вольного обращения с классикой» – оно здесь очень бережное и эстетически выверенное до миллиметра. Поклонники Гоголь-центра и Кирилла Серебренникова тоже вряд ли уйдут разочарованными, в «Обыкновенной истории» есть всё, за что любят спектакли К.С. Саша Адуев – он про каждого из нас, нравится нам это или нет.
Автор : Иван Гончаров
Режиссер : Кирилл Серебренников
Художник по свету : Игорь Капустин
Ассистент художника по костюмам : Максим Назаров
Видеохудожник : Илья Шагалов
Звукорежиссер: Антон Фешин, Станислав Перевезенцев
В ролях:
Саша Адуев: Филипп Авдеев
Петр Иванович Адуев: Алексей Агранович
Мама Саши / Марья Михайловна Любецкая: Светлана Брагарник
Юлия Тафаева: Ольга Науменко
Лиза: Екатерина Стеблина Светлана Мамрешева
Соня: Мария Селезнева
Надя Любецкая: Яна Иртеньева Александра Ревенко
Виктор / Князь : Иван Фоминов
Василий / Граф / Человек в костюме : Евгений Харитонов
Музыкант / Доктор / Человек в костюме : Андрей Поляков
Место: Гоголь-центр
Продолжительность: 2 часа 40 мин
«Обыкновенная история» в «Гоголь-центре»: как Серебренников ставит классику
Кирилл Серебренников поставил «Обыкновенную историю» в руководимом им «Гоголь-центре», перенеся действие романа Гончарова в современную Москву. Накануне другой спектакль режиссера — «Мертвые души» — стал объектом экспертизы, проводимой Институтом культурного и природного наследия на предмет искажения авторского замысла. «Газета.Ru» вспоминает другие постановки Серебренникова по классическим произведениям.
Накануне другой спектакль режиссера — «Мертвые души» — стал объектом экспертизы, проводимой Институтом культурного и природного наследия на предмет искажения авторского замысла. «Газета.Ru» вспоминает другие постановки Серебренникова по классическим произведениям.
Кирилл Серебренников с «Обыкновенной историей», поставленной в руководимом им «Гоголь-центре» по роману Гончарова, и Независимый профсоюз актеров театра и кино разминулись буквально на один-два дня. Не очень известное объединение артистов попросило подотчетный Минкульту Институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева проверить другой спектакль режиссера — «Мертвые души» (а заодно и «Бориса Годунова» и «Карамазовых» Константина Богомолова) — на предмет соответствия авторскому замыслу.
Теперь несколько научных сотрудников, видевших спектакли, а также их коллеги, которые посмотрят постановки в видеозаписи, будут на деньги налогоплательщиков искать ответ на вопрос «что хотел сказать автор?».
Кстати, режиссер, как следует из его последних интервью, и сам не прочь защитить русскую литературу — от попыток нейтрализовать радикализм лучших ее образцов путем присвоения их имен улицам и театрам, а также вечной ссылки в школьную программу и выдачи ореолов святости. Чтобы помочь профсоюзным деятелям искусств и экспертам оценить упущенный ими из внимания новый спектакль и понять, как Серебреников ставит классику, «Газета.Ru» рассказывает об «Обыкновенной истории» в ряду других постановок режиссера по отечественным литературным памятникам XIX века.
Чтобы помочь профсоюзным деятелям искусств и экспертам оценить упущенный ими из внимания новый спектакль и понять, как Серебреников ставит классику, «Газета.Ru» рассказывает об «Обыкновенной истории» в ряду других постановок режиссера по отечественным литературным памятникам XIX века.
«Лес» по Александру Островскому. МХТ, 2004
Серебренников переносит действие пьесы Островского в семидесятые годы XX века. «Лес» выходит в начале нулевых, на заре путинской эпохи — уже тогда режиссер видит параллели между брежневским застоем и «стабильностью» нулевых (восемь лет спустя Константин Богомолов четко заявит о преемственности между этими двумя периодами в спектакле «Год, когда я не родился» на той же сцене МХТ, а спустя еще немного времени стабильность кончится).
Пеньки, усадьба Гурмыжской — здесь пансион с атмосферой довлатовского заповедника: музыкальный лейтмотив спектакля — песня про Беловежскую пущу в исполнении пионерского хора.
В приживале Буланове — комсомольце, отличнике и приспособленце — угадываются манеры российского президента: он как раз приходится ровесником персонажу.
Тем не менее текст Островского не редактируется, но ставится в иной контекст: режиссер легко обходит анахронизмы — так, угрожая «позвонить» и вызвать слугу, Несчастливцев тянется не к колокольчику, а к телефонной трубке; артисты встречаются не на перепутье лесных дорог, а в привокзальном кафе и т.п.
«Господа Головлевы» по Михаилу Салтыкову-Щедрину. МХТ, 2005
Режиссер впервые работает с большой прозой — позже это станет увлечением: он продолжит писать инсценировки русских романов, классических и современных. В отличие от «Леса», никаких особых примет времени в «Головлевых» нет, как нет и прямых указаний на социальные проблемы — в этой постановке Серебренников мыслит метафорой.
Здесь невозможно выделить главный прием: это просто образцовая режиссура, причем достаточно деликатная, если не сказать традиционная.
Вряд ли у Серебренникова отыщется много таких спектаклей, где на первый план выходит игра актеров, а не, например, прочтение материала. Порфирий «Иудушка» Головлев — едва ли не лучшая роль Евгения Миронова: педант и святоша с елейным голосом, обладающим магической властью над окружающими.
«Мертвые души» по Николаю Гоголю. Латвийский национальный театр, 2010 / «Гоголь-центр», 2014
Среди работ Серебренникова именно «Мертвые души» попали в тройку спектаклей, которыми займется экспертиза. Это игровой, карнавальный спектакль, с гэгами, гротескными героями, песнями, жестким режиссерским рисунком. Один из нарочито театральных приемов наверняка насторожит самозваных защитников Гоголя, а именно то, что все женские роли играют мужчины.
Как же, русский классик — и размывание гендера? Правда, театральная традиция переодевания много старше, чем русская литература.
Однако, чтобы понять логику режиссера, не нужно даже оглядываться на историю театральной культуры — достаточно перечитать самого Гоголя. Единство противоположностей — таких, как мужское и женское, одушевленное и неодушевленное, реальное и фантастическое, — в мире писателя повсеместное явление.
«Мертвые души» поставлены так, как они поставлены, не просто по прихоти режиссера, а потому, что литературному приему он подбирал театральный эквивалент.
Гоголь называл свое сочинение поэмой — и как прикажете поступить в спектакле с лирическими отступлениями? Серебренников нашел идеальное решение: их можно пропеть! В топе лучшей музыки для драматического спектакля непременно оказались бы песни Александра Маноцкова на слова Гоголя: к счастью, теперь их можно слушать и смотреть.
«Обыкновенная история» по Ивану Гончарову. «Гоголь-центр», 2015
Обычно Серебренников ничего не меняет в авторском тексте — если его логика и меняется, то за счет визуального решения, мизансцен, актерской игры. В «Обыкновенной истории» он отступает от этого правила и сам пишет адаптацию романа — меняет Петербург на сегодняшнюю столицу, лексику XIX века — на современную. В остальном — все тот же вечно актуальный сюжет Гончарова,
обыкновенная история о том, как нонконформист Саша Адуев с некоторыми трудностями, но все же становится конформистом, поскольку социальная среда всячески препятствует тому, чтобы подростковая энергия протеста вовремя перешла в настоящее, зрелое критическое мышление.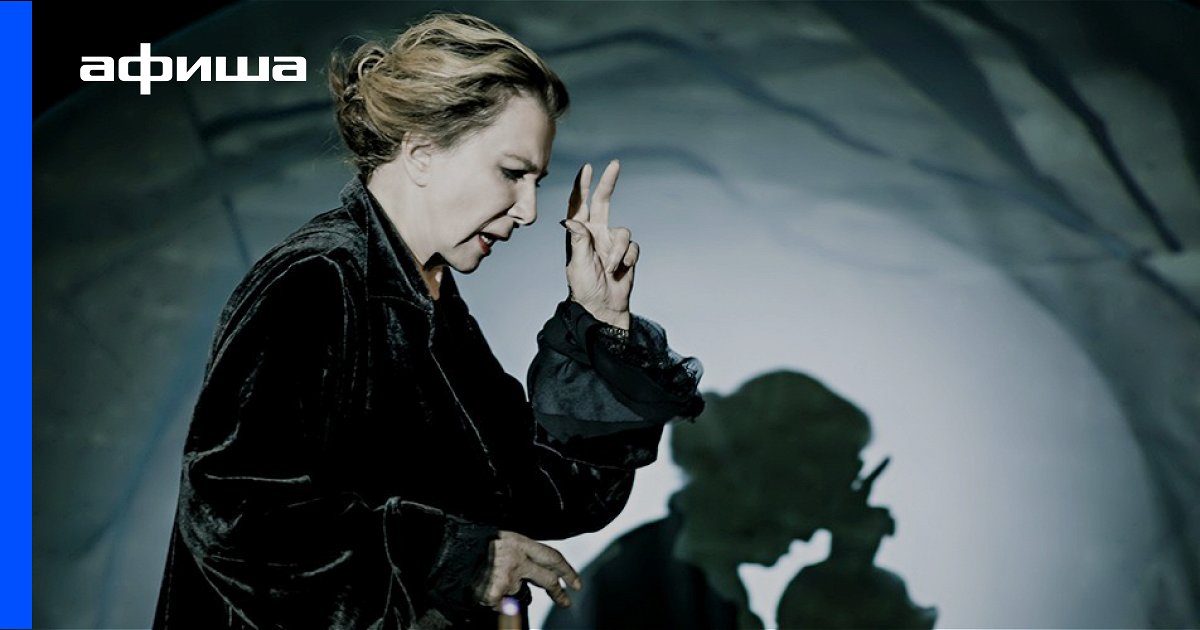
Самая плодотворная идея Серебренникова-инсценировщика — новая специальность дядюшки Петра Ивановича Адуева, того, что больше всех радеет о Сашином перевоспитании: старший Адуев продает искусственный свет.
Режиссер изображает Москву эдаким городом вечной ночи, освещение которого должно быть очень прибыльным занятием.
В отличие от провинциалов, жители столицы предпочитают оттенки черного. Сцену обрамляют драпировки того же цвета. Мрак оживляет (оживляет ли?) только товар Петра Ивановича: вывески, конструкции из флуоресцентных ламп и три больших, выше человеческого роста, светящихся нуля, которые сулят Адуеву-младшему то ли трехзначные суммы, то ли потерю собственного «я».
Волшебная история | Рэйчел Полонски
Ferdinando Scianna / Magnum Photos
Модная фотосессия на разобранном статуе Сталина, Будапешт, 1990
Кровавым летом 2014 года восьмой роман Владимира Шарова « Возвращение в Египет » вошел в шорт-лист «Большой книги» России. самая престижная литературная награда (и самая прибыльная в мире после Нобелевской премии по литературе). 1 Спустя несколько месяцев он получил Букеровскую премию России.Его герой, советский агроном, потомок Николая Гоголя, берет на себя задачу завершить незаконченный шедевр своего предка Мертвых душ и привести русский народ к спасению.
самая престижная литературная награда (и самая прибыльная в мире после Нобелевской премии по литературе). 1 Спустя несколько месяцев он получил Букеровскую премию России.Его герой, советский агроном, потомок Николая Гоголя, берет на себя задачу завершить незаконченный шедевр своего предка Мертвых душ и привести русский народ к спасению.
В сентябре Шаров дал длинное интервью Российской газете , официальной правительственной газете России. «Ваши главные темы, от книги к книге, — это Бог, История, Родина, искусство», — прокомментировал интервьюер. Оплакивая отсутствие бегства от политики в наши дни, она процитировала отрывок из Возвращение в Египет , описывающий место рождения Гоголя:
Украина, бывшая окраина Польши и России, родилась из их смешения и их ненависти.Бунт нечистых сил, который вы обнаруживаете у Гоголя, исходит из его веры в то, что нет места на земле лучше и свободнее для нечистых сил, чем здесь.
Шаров выразил ужас при любой связи этих слов с ежедневными новостями: «Я бы никогда не хотел быть пророком чего-либо подобного». По его прогнозам, на урегулирование конфликта на Украине уйдут десятилетия: «В истории раны заживают очень медленно».
По его прогнозам, на урегулирование конфликта на Украине уйдут десятилетия: «В истории раны заживают очень медленно».
Художественная литература Шарова — это поиск семян истории. По образованию он историк; его дипломная работа была посвящена «Смутному времени», российскому политическому кризису начала XVII века.Он несет на себе раны советской истории:
Я, как и другие, никогда не мог простить Советской власти многие и самые разные вещи, среди которых были миллионы людей, расстрелянных или погибших в лагерях, в том числе две трети моих собственных семья. 2
В их число вошли его дедушка и бабушка по отцовской линии, Израиль и Фаина Нюренберг, члены социалистического Бунда из Украины. Имя Фаины фигурирует в списке казней, который в июле 1938 года отправил Сталину Николай Ежов, начальник отдела НКВД , тайной полиции.Отец Шарова, Шер Нюренберг, родившийся в Киеве, специализировался на генетике в МГУ. В 1920-х годах он стал научно-популярным писателем, сменив имя в 1937 году на Александр Шаров (обычное русское имя без еврейских следов). В тот год массовых чисток он присоединился к одной из героических научных экспедиций сталинской эпохи — зимнему перелету через Арктику. Владимир, его единственный ребенок, родился в 1952 году. В конце 1950-х годов Александр Шаров начал писать для детей волшебные сказки и научную фантастику.«Мой отец до конца своих дней был ребенком, — вспоминает Шаров. Он рассматривает детскую яркость взглядов своего отца — его наивность, фантазию и остроту восприятия — как необходимые условия для написания подлинных волшебных сказок и неотъемлемую часть трагического взгляда на жизнь. 3
В тот год массовых чисток он присоединился к одной из героических научных экспедиций сталинской эпохи — зимнему перелету через Арктику. Владимир, его единственный ребенок, родился в 1952 году. В конце 1950-х годов Александр Шаров начал писать для детей волшебные сказки и научную фантастику.«Мой отец до конца своих дней был ребенком, — вспоминает Шаров. Он рассматривает детскую яркость взглядов своего отца — его наивность, фантазию и остроту восприятия — как необходимые условия для написания подлинных волшебных сказок и неотъемлемую часть трагического взгляда на жизнь. 3
Жанр, в котором пишет Владимир Шаров, получил название «магический историзм». Историк культуры Александр Эткинд объединяет его с Виктором Пелевиным, Владимиром Сорокиным и Дмитрием Быковым как «модных постсоветских авторов» фантастических произведений, которые сочетают религию и историю «богатым и шокирующим образом».«Русский магический историзм, в отличие от магического реализма, занимается историей, а не социальными проблемами или психологией. Контекст — это «посткатастрофическая» современная Россия, в которой «нет единого мнения по важнейшим вопросам исторической памяти». 4 Все эти писатели теперь публикуются основными издательствами, выигрывают литературные премии, получают освещение в средствах массовой информации и вызывают общественный резонанс. Хотя Шаров незаметно завоевал авторитет критиков в России, он единственный из четырех, кто остался неизвестным английским читателям.
Контекст — это «посткатастрофическая» современная Россия, в которой «нет единого мнения по важнейшим вопросам исторической памяти». 4 Все эти писатели теперь публикуются основными издательствами, выигрывают литературные премии, получают освещение в средствах массовой информации и вызывают общественный резонанс. Хотя Шаров незаметно завоевал авторитет критиков в России, он единственный из четырех, кто остался неизвестным английским читателям.
До и во время года первым из произведений Шарова, переведенных на английский язык, был его третий роман. Он написал его, когда коммунизм разваливался между 1988 и 1991 годами, и называет его последним романом советской эпохи. Он был опубликован два года спустя в уважаемом литературном журнале «Новый мир », для которого писал его отец. Роман вызвал огорчительный скандал. Чучело Шарова было сожжено возле его дома. В редакции Новый мир открылся раскол.Два члена правления, литературные критики Сергей Костырко и Ирина Роднянская, не согласились с решением опубликовать произведение, которое, по их мнению, запятнало страницы журнала. Их статья «Мусор из хижины» (показ грязного белья публично) — это миниатюрное свидетельство лихорадочной культурной незащищенности начала 1990-х годов, когда советская империя села на мель на обломках идеологических экспериментов двадцатого века, и поп-культура Запада захлестнула российские СМИ.
Их статья «Мусор из хижины» (показ грязного белья публично) — это миниатюрное свидетельство лихорадочной культурной незащищенности начала 1990-х годов, когда советская империя села на мель на обломках идеологических экспериментов двадцатого века, и поп-культура Запада захлестнула российские СМИ.
Оплакивая общую духовную неразбериху и утрату эстетического согласия, Роднянская назвала трактовку Шаровым «русской и священной истории» «изнасилованием».«Он намеревался, — заключила она, — выставить своих читателей дураками. Костырко обвинил Шарова в перетаскивании русской высокой культуры, а также «легенд о Христе, секретов сталинского режима и загадок еврейского менталитета» в сферу современного китча, в сферу, как он выразился, Арнольда. Шварценеггер, мягкие порнофильмы, такие как Emanuelle , и Анатолий Кашпировский, психический целитель, который после распада СССР гипнотически смотрел на ошеломленное население с экранов TV , обещая починить бытовую технику и сломанные жизни с помощью экстрасенсорных способностей.
Два десятилетия спустя, До и во время остается дезориентирующим чтением. Роман обращается к реальным историческим событиям и людям (Толстой, мадам де Сталь, святой Иоанн Кронштадтский, Александр Скрябин, Сталин и другие), закручивая их в фантасмагорическую альтернативную хронологию. Истории рождаются в других историях, разворачиваясь в удивительных вариациях. Ясность и прямота прозы Шарова, великолепно исполненная Оливером Ридом, сбивают с толку, почти галлюцинации.Его сочинения временами забавны, временами настолько пронзительно трогательны, настолько полны неутолимой печали, что вызывают двусмысленность. «Как я сюда попал?» это вопрос, который его читатель, вероятно, будет задавать снова и снова.
Алеша, первый рассказчик романа, заблудился на «неровной, неуверенной тропе» в городской пустыре под Москвой, пытаясь найти путь в психиатрическую больницу. Три года назад он поскользнулся на льду и ударился головой. Он неоднократно терял сознание и на несколько недель терялся в бродяжничестве. Опасность для его жизни и ужасающая перспектива полной амнезии привели его в больницу Корсакова, чтобы обратиться за помощью к загадочному доктору Кронфельду. Алеша знает, что собственные мысли «странные». Истории, которые он услышит в больнице, еще более странны. Им рассказывают его сокамерники, которые, как сообщает ему Кронфельд, в основном старые большевики и бывшие партийные боссы. Несмотря на то, что они безумны, страдают несдержанностью и не знают о своем собственном состоянии, они по-прежнему привержены привычке к интеллектуальному исследованию и все жаждут признаться и искать искупления.
Опасность для его жизни и ужасающая перспектива полной амнезии привели его в больницу Корсакова, чтобы обратиться за помощью к загадочному доктору Кронфельду. Алеша знает, что собственные мысли «странные». Истории, которые он услышит в больнице, еще более странны. Им рассказывают его сокамерники, которые, как сообщает ему Кронфельд, в основном старые большевики и бывшие партийные боссы. Несмотря на то, что они безумны, страдают несдержанностью и не знают о своем собственном состоянии, они по-прежнему привержены привычке к интеллектуальному исследованию и все жаждут признаться и искать искупления.
1965 год. Алеша среднего возраста, «бывалый» писатель. Его университетская диссертация была посвящена мадам де Сталь. Хотя когда-то он планировал написать популярную биографию ее жизни для серии под названием « жизней замечательных людей », он зарабатывал на жизнь написанием детских книг о Ленине. Большевики его воображения сладковаты и утешительны, как кондитерские изделия, рожденные из детских чувственных воспоминаний.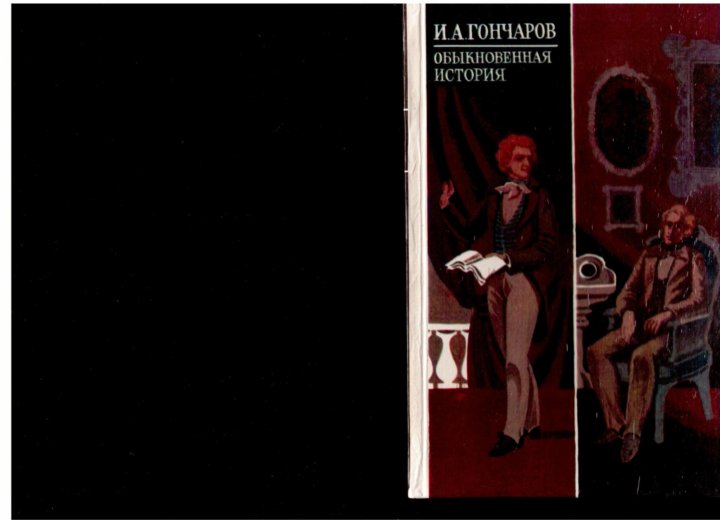 Мальчиком Алеша жил через дорогу от кондитерской «Большевик», от которой пахло восхитительно.Он дорожит прекрасным изображением тонких пальцев матери, покрытых фиолетовым лаком для ногтей, которые тянутся к коробкам шоколадных конфет, произведенных на другой фабрике под названием «Девушка-большевик». Так что все большевики в его книгах («мои большевики»), как мужчины, так и женщины, заканчиваются «как мама, добрая, нежная мама».
Мальчиком Алеша жил через дорогу от кондитерской «Большевик», от которой пахло восхитительно.Он дорожит прекрасным изображением тонких пальцев матери, покрытых фиолетовым лаком для ногтей, которые тянутся к коробкам шоколадных конфет, произведенных на другой фабрике под названием «Девушка-большевик». Так что все большевики в его книгах («мои большевики»), как мужчины, так и женщины, заканчиваются «как мама, добрая, нежная мама».
В оскорбленном уме Алеши игра памяти и забывания становится навязчивой. Память — это «центр [его] мира», обязанность настолько тяжелая, что он ломается под ее тяжестью. Он решает, что может обойтись без своего, но обязан хранить память о других: «О тех, кого знал только я или, во всяком случае, кого только я был готов помнить.Он берет идею из жизни царя Ивана Грозного. Как он узнал от своего отца, в конце своей жизни Иван составил Книгу памяти опальных, записав жертв своего террора, чтобы можно было молиться об их воскресении. Алеша намеревается написать свою Книгу памяти, которая будет соответствовать «тому древнерусскому жанру, Плачу»:
Плач по людям, которых я знал и любил.
Для людей, которые, к сожалению, умерли раньше времени, ничего не оставив, кроме моей памяти….Ни одна из их жизней не встала на свои места; ни в одном из них не было много любви, радости или, временами, даже смысла; и ни один из этих людей не добился многого, пока они могли…. Они прошли через агонию перед смертью и ушли в печали. Умирая, они чувствовали себя обделенными, опозоренными, обманутыми.
Первые два имени в Книге Памяти — Николай Пастухов, бывший прокурор, попавший в любовный треугольник, с которым Алеша случайно познакомился в поезде, и Вера Рождественская, дальняя родственница, которая теперь уже дряхлеет, но является его последней. связь с родственниками, от которых он был отрезан смертью отца.Муж Рождественской, который когда-то управлял нефтяными месторождениями в Чечне, был арестован в 1937 году и расстрелян. С тех пор ее жизнь была «тяжелой и пугающей». В недостойной путанице своего слабоумия она находит несколько «острых, подробных и, прежде всего, радостных» фрагментов: «Ее первая пара танцевальных туфель, дача…, бойкот немецких магазинов в 1914 году и породистая колли, которую ей подарили ненадолго. перед войной ».
перед войной ».
Пастухов и Рождественская пытались запечатлеть что-то свое в памяти.Тем не менее, хотя его Книга памяти дает Алеше ощущение, что ему «дарован дар воскресения», его попытка вернуть людей словами подчеркивает невозможность создания истинных летописей прошлого. То, что не записано, улетает и умирает; то, что записано, фальсифицируется памятью, и многое из того, что происходит, слишком «ужасно и непростительно», чтобы их вообще можно было вспомнить. Так что же происходит с любовью, задается он вопросом? А что станет с идеями, верованиями, молитвами и стремлением к коллективному спасению, которое течет через российскую историю в потоке жертвенной крови?
«Третий человек, о котором я напишу, — это Толстой», — внезапно объявляет Алеша от обещанного причитания о ничем не примечательных жизнях.На сцену выходят и другие сокамерники: Морозов и Сабуров, ученики Толстого, когда-то жившие в сибирской коммуне, и «многие другие люди», которые подробно обсуждают конкурирующие интерпретации толстовства. Были ли этические принципы великого писателя настолько чистыми, что их нельзя было использовать неправильно? Или его идеология была «актом насилия против обычной человеческой природы», почти идентичным большевизму в его стремлении переделать людей и построить рай на земле? Могло ли толстовство действительно быть источником вдохновения для самых жестоких исследователей сталинского НКВД ?
Были ли этические принципы великого писателя настолько чистыми, что их нельзя было использовать неправильно? Или его идеология была «актом насилия против обычной человеческой природы», почти идентичным большевизму в его стремлении переделать людей и построить рай на земле? Могло ли толстовство действительно быть источником вдохновения для самых жестоких исследователей сталинского НКВД ?
Рассказ Алеши об этих дебатах пересекается с детскими воспоминаниями о соседе, Семене Кочине, пережившем сталинские лагеря, знатоке жизни и мысли Толстого, «который в 1936 году прошел через руки именно такого следователя в московской Лефортовской тюрьме.Кочин, мудрый и эксцентричный затворник (который тоже стремится продлить свою жизнь писательством), становится четвертым героем Книги памяти Алеши. «В целом, — с серьезным парадоксом говорит Кочин, — те, кто наиболее остро чувствует несовершенство этого мира, не склонны придавать большое значение жизням других». Толстой разрывался между своими убеждениями и узами семейной любви. Он был «очень хорошим человеком», — сказал бы Кочин, но его отказ от жены и детей в пользу ряда идей был злом.
Он был «очень хорошим человеком», — сказал бы Кочин, но его отказ от жены и детей в пользу ряда идей был злом.
Шаров гномически сказал в интервью, что вся российская история — это комментарий к Книге Бытия. Вопросы происхождения и личности волнуют его героя Алешу. «Не было… никого, кто мог бы сказать мне, кто я такой или откуда пришел», — сетует он, думая о своей семье. «Жизненно важный детский вопрос», — говорит он о большевиках, — «откуда они пришли и как родились». Замысловатая петля из фантастических кровосмесительных генеалогий проходит через до и во время .Первый из них — в семье Толстых, чей врач, прямо говорит Алеша, подтвердил, что старший сын Толстого Лев на самом деле был моновулярным близнецом писателя, развитие которого задерживалось и который таинственным образом созрел в утробе своей жены Сони.
В поисках объяснения происхождения больницы и имен других пациентов Алеша разыскивает другого заключенного, Николая Ифраимова. Ифраимов, своего рода еврейский мистик и мудрец, рассказывает ему, что с 1922 по 1932 год госпиталь был сверхсекретным Институтом естественных гениев, «созданный Лениным». Его директор, «обаятельный и исключительно умный» профессор Трогау, изучал гениальность и ее близость к психической патологии. Целью института было повысить гениальность страны, приблизив ее к выполнению ее священной миссии: искуплению человечества. Однако в 1932 году в Трогове была произведена чистка, а его институт распущен. (Позже мы узнаем почему.) Десять из нынешних сокамерников, включая Ифраимова, являются последними из его выпускников.
Его директор, «обаятельный и исключительно умный» профессор Трогау, изучал гениальность и ее близость к психической патологии. Целью института было повысить гениальность страны, приблизив ее к выполнению ее священной миссии: искуплению человечества. Однако в 1932 году в Трогове была произведена чистка, а его институт распущен. (Позже мы узнаем почему.) Десять из нынешних сокамерников, включая Ифраимова, являются последними из его выпускников.
Ночные рассказы Ифраимова пересекаются с рассказами Алеши о его собственном психическом состоянии, а также интеллектуальными дискуссиями и оргиастической сексуальной активностью других заключенных.Он начинает еще одну Книгу памяти, чтобы записать их жизни, «чтобы их полюбили». Они выстраиваются в очередь, чтобы опорожнить «целые мешки жизни… бесчисленные мелочи пережитого опыта». В письменной форме Алеша снова находит спасительную цель. Он понимает, что Ифраимов тоже диктует текст для Книги памяти. «Суть» событий «так часто скрывается», — говорит Ифраимов. Он излагает альтернативную фантастическую историю русской революции, выявляя ее закопанные философские семена и ее «конечную цель»: «Возвращение — усилиями человека, а не Бога — всего человечества на небо.Наконец, повествования сходятся в снежном повторении Потопа в Книге Бытия, где больничная палата становится Ковчегом Спасения.
Он излагает альтернативную фантастическую историю русской революции, выявляя ее закопанные философские семена и ее «конечную цель»: «Возвращение — усилиями человека, а не Бога — всего человечества на небо.Наконец, повествования сходятся в снежном повторении Потопа в Книге Бытия, где больничная палата становится Ковчегом Спасения.
В центре повествования Ифраимова мадам де Сталь и влиятельный философ XIX века (и библиотекарь Румянцевского музея в Москве) Николай Федоров. Федоров, который на самом деле умер в 1903 году, развил идею о том, что «общей задачей» человечества является материальное воскресение мертвых. Алеша узнает, что пожилая пара в его палате — «элегантная, прямая старушка в соседней комнате… и влюбленный в нее старик» — де Сталь и Федоров.В финальном эпизоде Федоров становится Ноем. Хотя историческая де Сталь умерла в 1817 году (она побывала в России в 1812 году), де Сталь Ифраимова трижды использовала каббалистическую магию, чтобы родить себя, став провинциальной русской помещицей, «Евгенией Францевной Сталь», любовницей девственника Федорова (в жуткое сказочное эротическое приключение, включающее опиумные ступоры и хрустальный гроб) и мать его трех сыновей-солдат с повреждением мозга (которые также находятся в палате).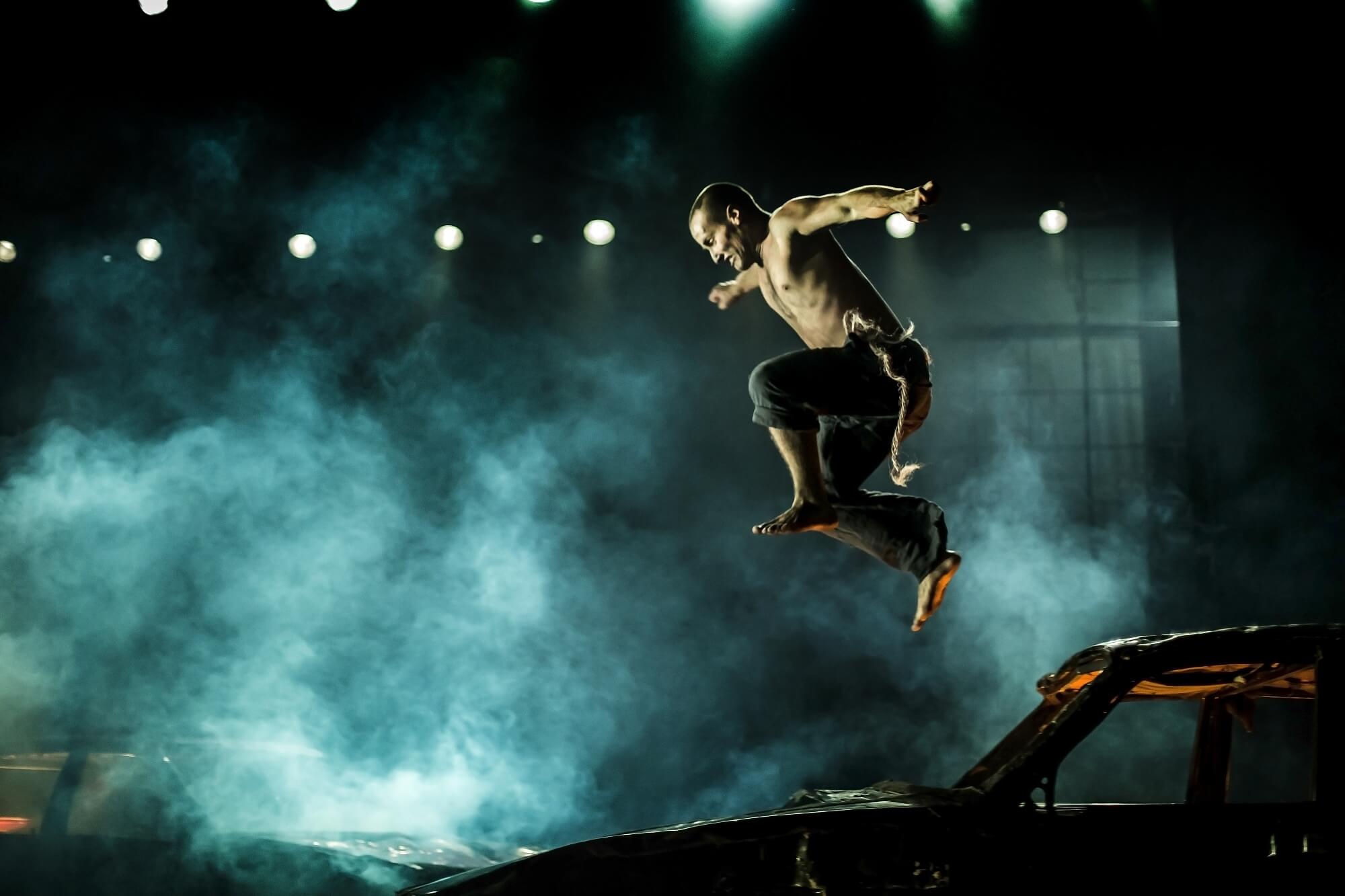
Де Сталь признает Федорова «источником грядущей революции, ее истинным корнем.Он высасывает из нее все, что она знала о Французской революции, адаптируя ее для России, которая веками считала себя избранной среди народов. Федоров хочет, чтобы жизнь на земле была совершенной. Он восстает против сложности мира и мечтает упростить его через разрушение. По сути, это восстание против Бога, объясняет Ифраимов, поскольку «мир Бога — это мир вопросов. Только вопросы соизмеримы со сложностью его мира ».
Возрожденный де Сталь обладает поразительным талантом к любви (и к деторождению по небрежности).«След ее идей… тянется вдоль и поперек». Ее роман с благородным грузином порождает сына Сталина («сына Сталя»), который позже становится ее любовником в исторически сложившейся связи. В своем московском особняке она питает революцию: собирает средства, организует и спит с социалистами. Самые ярые революционеры — не ленинцы, а федоровцы, бредящие от русского мессианизма. После 1917 года де Сталь занимает «довольно высокое положение в коммунистической иерархии» и вместе с профессором Трогау основывает Институт естественных гениев. Она формирует культ Сталина, выкидывает ребенка Троцкого и провоцирует чистку старых большевиков, соблазняя их одного за другим, чтобы вызвать ревность Сталина. Если он действительно хочет построить коммунизм, призывает она, пока они ходят среди «жуков и бабочек» в его дачном саду, он должен «убивать и убивать», потому что коммунизм может быть «сформирован только совершенными людьми».
Она формирует культ Сталина, выкидывает ребенка Троцкого и провоцирует чистку старых большевиков, соблазняя их одного за другим, чтобы вызвать ревность Сталина. Если он действительно хочет построить коммунизм, призывает она, пока они ходят среди «жуков и бабочек» в его дачном саду, он должен «убивать и убивать», потому что коммунизм может быть «сформирован только совершенными людьми».
Самые экстатические моменты физической страсти Де Сталь связаны с композитором Скрябиным, «самым блестящим из всех революционеров, которые встречались ей на пути.Они обедают вместе почти каждый день в московском отеле «Метрополь», когда он работает над своей революционной Mysterium , синестетической музыкальной композицией, которая разыграет «Вселенную в руинах» и «спровоцирует глобальную катастрофу». Мы узнаем, что «неофициальная» история 1917 года, основанная на «весьма необычных источниках», из-за которой Трогау подвергся чистке, была расшифровкой ленинского Государства и революции . Знаменитый трактат на самом деле является частью утраченного Скрябина Mysterium , зашифрованного послушным Лениным в 1914 году.В своей Памятной книге Алеша копирует «стенограмму стенографии Ленина из Трогова» — двадцатистраничный поток фантастических исторических сочинений, в которых революция, война и террор вызываются через запах. На берегу Женевского озера Скрябин — Иоанн Креститель Мессии Ленина — проповедует «мировую войну, бойню, смерть старого мира, революцию, социализм, последние дни».
Знаменитый трактат на самом деле является частью утраченного Скрябина Mysterium , зашифрованного послушным Лениным в 1914 году.В своей Памятной книге Алеша копирует «стенограмму стенографии Ленина из Трогова» — двадцатистраничный поток фантастических исторических сочинений, в которых революция, война и террор вызываются через запах. На берегу Женевского озера Скрябин — Иоанн Креститель Мессии Ленина — проповедует «мировую войну, бойню, смерть старого мира, революцию, социализм, последние дни».
Революционная история Шарова исходит от советского писателя Андрея Платонова. В недавнем эссе он называет Платонова «одним из немногих, кто видел и знал революцию изнутри» во всем ее детском энтузиазме, для которого связь между коммунистической революцией и православной эсхатологией была очевидна.Спорно, в сегодняшней России Шаров рассматривает идею Московии как Третьего Рима, заложенную монахом Филофеем в 1510 году и принесенную в двадцатый век Федоровым, как могущественное семя 1917 года. Распространение веры привело к кроткому принятию террора, когда «одна часть народа ведет другую на бойню», как необходимого очищения, цены избавления.
Распространение веры привело к кроткому принятию террора, когда «одна часть народа ведет другую на бойню», как необходимого очищения, цены избавления.
Шаров заслуживает читателей за пределами России. Его романы передают уникальное видение истории во всей ее загадочной странности.Хотя метафорическая плотность его фантазий может сбивать с толку, светлая проза Шарова никогда не теряет очарования и теплоты традиционных волшебных сказок или их чувства скрытой угрозы. Перед лицом огромной индивидуальной и коллективной утраты он превратил художественную литературу в стиль траура и инструмент подлинных исторических открытий.
Забытые федоровцы-большевики Шарова напоминают ставленника Сталина Вячеслава Молотова. Он присоединился к большевикам в 1906 году и умер в 1986 году, незадолго до того, как Шаров начал писать До и За .В преклонном возрасте он проводил дни в московской библиотеке имени Ленина (бывший Румянцевский музей), составляя ненужные меморандумы для ЦК Коммунистической партии. Он по-прежнему утверждал «особую миссию» русского народа. Когда его спросили, зачем нужен террор, он ответил: «У нас нет готовых чистых людей, очищенных от всех грехов». 5
Он по-прежнему утверждал «особую миссию» русского народа. Когда его спросили, зачем нужен террор, он ответил: «У нас нет готовых чистых людей, очищенных от всех грехов». 5
Кому в России хорошо жить Спектакль Гоголь. «Кому хорошо живется в России» по Серебренникову
Новый сезон в Гоголь-центре открыла премьера, сыгранная под эгидой фестиваля «Вишневый лес».Вслед за Некрасовым режиссер Кирилл Серебренников задумался: «Кому хорошо живется в России?» Ответ ему искали вместе с актерами. Для начала они отправились в экспедицию по местам творчества автора и героев поэмы. Первой остановкой была Карабиха — имение Некрасовых.
Некрасов писал, что стихотворение «Кому на Руси жить хорошо» собрано «на слове». Постановку по этому стихотворению Кирилл Серебренников начал собирать из поездки в Гоголь-центр в России.
Юные художники Режиссер Берется, посмотреть, как устроена страна, и полюбить — главное! — Это так.Говорят, в столичном комфорте этого не понимают! Здесь играют не о мужиках. Некрасовский текст вложен в уста героев сегодняшнего человека, которые оставили у путешественников противоречивое впечатление. Собственно, как и автор первоисточника.
Некрасовский текст вложен в уста героев сегодняшнего человека, которые оставили у путешественников противоречивое впечатление. Собственно, как и автор первоисточника.
«Это« качество », этот диапазон -« ты и несчастный, ты и изобильный, ты и бедный, ты и богатый, ты и ужасный, ты и прекрасное »- диапазон чувств, страстей, качества. человека — это очень важное свойство России, и это важно для понимания Некрасова », — убежден режиссер Кирилл Серебренников.
Как и Некрасов, спектакль собран из разных частей, отдельных глав. Принцип коллажа нашел отражение в жанре. Здесь и спектакль, и драма, и рок-опера. Вторая часть спектакля называется «Пьяная ночь». Она без слов. Построен исключительно на хореографии.
«Мы оставили историю« пьяного », мы оставили историю водки, мы оставили историю грешного человека в словаре — мы пришли в какую-то иную реальность этого полета над миром человека, который хочет счастья!» , — поясняет постановщик-хореограф.Антон Адасинский.
Собирательный образ «русской женщины» лег на плечи, приглашенные специально для этой постановки, — Евгения Добровольская. Серебренников экспериментирует с классикой не в первый раз. В экспедицию актриса не поехала.
Серебренников экспериментирует с классикой не в первый раз. В экспедицию актриса не поехала.
«Мне не нужно водить машину по России. Я все достаточно хорошо знаю. Некрасов своего рода поэт, он писал о той России, которую ребята ездили, смотрели, и получился замечательный документальный фильм.Но это все подсознательно и до сих пор в крови », — заявила народная артистка России Евгения Добровольская.
А стихотворение написано после отмены крепостного права, и это спектакль о свободе и рабстве. О выборе, который делает русский мужчина. А про «Русский мир», границы и суть которого пытаются добавить создатели спектакля. А на сакраментальный вопрос — «кто весело, свободно живет в России» — они, как и Николай Некрасов, не отвечают.
Добра в Гоголь-Центре к публике, людям интеллигентным и просто сочувствующим. Посетить это живое театральное пространство может любой, мало знакомый с культурой горожанин. Билет на спектакль нужен только для прохода в зал театра, который всегда полон. В центре, созданном Талантливым Кириллом Серебренниковым, можно в любой день:
В центре, созданном Талантливым Кириллом Серебренниковым, можно в любой день:
Со вкусом посидеть в кафе, с интересом послушать лекции (перед каждым спектаклем рассказывать об эпохе, драматурге, создавать необходимое настроение),
Побродите с любопытством и подберите между установками,
Из любопытства получить доступ к театральной медиатеке (нужен только паспорт).
А еще в центре работает «Гоголь-кинотеатр» с рассказом и спектаклем избранного премьера и «Гоголь +» — где можно «жить», разговаривать с актерами, драматургами и режиссерами.
В общем, публику сюда заманивать не надо, она в Гоголевском центре — особенная, как-то так, в застойные семидесятые, был верен театру на Таганке не только по бесспорному таланту, но и по своей революционности. не случайно.
Спектакль «Кто на Руси живёт хорош» — эпопея по силе замысла, по тексту, по духу и по исполнению.Есть четыре часа с двумя перемычками.
Три части, три действия — «Спора», «Пьяная ночь», «Пирс на весь мир» — такие разные, будто за вечер вместо одного показываешь три спектакля. Нужно только настроиться на восприятие сложного многомерного действия. И понятно, почему Кирилл Серебренников приглашал известные оперные театры. Вторая часть «Пьяной ночи» — чистая опера, сделанная современно, мастерски, увлекательно, сложно. Хочу отметить высочайший уровень вокалисток Гоголь-центра — Риту Крон, Марию Селезневу, Ирину Брагина, Екатерину Стем и других.
Нужно только настроиться на восприятие сложного многомерного действия. И понятно, почему Кирилл Серебренников приглашал известные оперные театры. Вторая часть «Пьяной ночи» — чистая опера, сделанная современно, мастерски, увлекательно, сложно. Хочу отметить высочайший уровень вокалисток Гоголь-центра — Риту Крон, Марию Селезневу, Ирину Брагина, Екатерину Стем и других.
Полнотомная многомерная история завораживает, фондирует, время летит почти незаметно. Правда, в первом антракте несколько человек ушли из театра, но на качестве и количестве публики это не повлияло.
Я не считаю себя поклонниками творчества Кирилла Серебренника, хотя всей душой переживаю за его дальнейшую судьбу — как человека, так и свободного творца. Но в этой пьесе, третий год выходящей на сцену Гоголь-центра, который уже третий год является выдающимся культурным событием, я принял все.Я был в восторге от работы сплоченного дружного профессионального коллектива театра. Пластическое решение (Антон Адасинский), вокал и музыкальное оформление (композиторы Илья Демуцкий и Денис Чоров), выразительные костюмы (Полина Гречко, Кирилл Серебренников). Но главное, конечно, режиссерская идея. Мы все однажды в Школе Некрасова прошли без всякого удовольствия, взгляда, веря, что это стихотворение о временах далеких и чуждых, а не о нас. Но наступили времена, когда все трогали и до сих пор всех коснутся.На вопрос «кто живет в России весело» сегодня есть такие неутешительные ответы, что даже у оптимистов глаза тряслись.
Но главное, конечно, режиссерская идея. Мы все однажды в Школе Некрасова прошли без всякого удовольствия, взгляда, веря, что это стихотворение о временах далеких и чуждых, а не о нас. Но наступили времена, когда все трогали и до сих пор всех коснутся.На вопрос «кто живет в России весело» сегодня есть такие неутешительные ответы, что даже у оптимистов глаза тряслись.
Текст Некрасова, переведенный сегодня Кириллом Серебренниковым, вызывает слезу. Культовый трубопровод, проложенный режиссером-сценой через всю сцену, цепляется за все бедное население (женщины в просторных халатах и мужчины в Майки-алкоголиках). Все силы, средства и годы — это труба. Оставшееся время залейте старые телевизоры и водку фробином. В глубине трубы стенка из щеточной проволоки с колючей проволокой… куда идти? — Пророчески отражает художника. И на пути семеро мужчин, терзаемых вопросами, которые невозможно выразить, решают спросить людей: «Кто живет счастливо, свободно в России?».
Как они проходят по родной земле, как идут — надо видеть, но не забывая читать и перечитывать надписи на многочисленных футболках, и сердцем слушать, и думать . .. думать …
.. думать …
А как отвлекает от вопросов и затягивает слух Народная певица в стиле Зыкиной-Воронец — чудесная Рита Корона.
Многоцветный спектакль похож на Россию, места ужасные, грубые, нетоварные, но красивые, добрые, необъятные …
В рецептуре много сюрпризов. Например, в третьей части пьесы оребреников публики к некрасовским «человечкам», бродящим по залу, присоединяется кучка, гоняющая водку из ведра тех, кто отвечает на вопрос, почему он счастлив. Примитивные ответы типа: «доволен, потому что спектакль очень нравится …» — ни в коем случае не воодушевляют.
Центральная фигура финала — монолог «счастливой» женщины. Матрена (Евгения Добровольская) рассказывает о своей русской женской доле, так что все мужское население порезано. Доменсионал в ответ на унижение — единственное, что веками держит Россия, виляя восстаниями и революциями, и перестройкой, феодализмом, социализмом, капитализмом …
Что тебя ждет, чего ты хочешь, Русь?
Не отвечает . ..
..
Фотография irs polar
Гоголь-центр, спектакль «Кому в России хорошо живется», режиссер Кирилл Серебренников
Народная трагедия и вечная тайна русской души — в эпической пьесе Кирилла Серебренникова.Всем любителям жанра «Политическая сатира» обязательно.
«Кто может жить в России?» Источник: Ира Полярная.
Спектакль по некрасовской поэме «Гоголь-центр» готовился долго, ездил в экспедицию вместе с Ярославским театром. Ф. Волкова, премьера объявлена совместной — на май. В итоге первые показы прошли только в сентябре, и без участия ярославских коллег. Успех, несмотря на развернутую в СМИ кампанию против Серебренникова и его театра, оказался оглушительным.Публика предлагает сложную многогранную диету с овациями стоя. И упрекать режиссера и его команду в антипатриотизме явно не собираются.
На сцене — трезвый и злой взгляд на русскую действительность, такую же вне века. В этом нет ненависти. Есть горький смех и здоровое упорство — «Родина не выбрана». В той, которая ушла, — жить, работать и умереть. Картина «Жизнь в России» четыре часа демонстрируется как один большой эстрадный номер. Кукурузный КВН.
В той, которая ушла, — жить, работать и умереть. Картина «Жизнь в России» четыре часа демонстрируется как один большой эстрадный номер. Кукурузный КВН.
В первой части (она называется «Спора») перед публикой — ток-шоу, импотент из столицы берет микрофон в руки и, циничным взглядом измеряя публику, выясняет, кто мы до сих пор живу хорошо.Публика — семеро мужчин, в сегодняшней версии это хипстер, интеллектуал, алкоголик, вечный борец за правду и другие узнаваемые персонажи. Один со страхом произносит — «Министр», второй — шепотом «осел», третий разворачивает плакат с надписью «Король». Ни один из ответов Некрасовского не стоит специально обновлять — достаточно просто воспроизвести их со сцены, чтобы основной посыл спектакля был: «мы никогда не умели, не умеем и, видимо, жить не сможем». свободно »- выяснилось совершенно ясно.
«Кто может жить в России?» Источник: Ира Полярная / Гоголь-центр
Сценография тоже говорит. Через всю сцену газовая (а может и масляная) труба. Ковер наброшен на самый край, где-то натянута колючая проволока. Вечная застенчивость, тюрьма, на которую уже опозорились.
Ковер наброшен на самый край, где-то натянута колючая проволока. Вечная застенчивость, тюрьма, на которую уже опозорились.
Одна из самых ярких сцен спектакля — «О образцовой голопе, верном Якове». Раб не выдержал издевательств барина и повесился на глазах, чтобы отомстить.Режиссерское получение вознаграждения просто — Silventmen показывает большие планы: Faced Face Camera. На одном написаны унижение и отчаянный протест, на другом — самодовольная грубость и трусость.
Вторая часть («пьяная ночь») решена совершенно неожиданно — через танец. Хореография Антона Адасинского бьет себе под нос. Вся сцена «съедена» разделенными телами «мужчин», они бьются в конвульсиях, упорно встают и снова падают, как молоко.Весь колорит женской половины труппы на этот раз подходит для фантастического модного дефиле. В объемных русских сарафанах из Кутуура они шьют по сцене и поют нацарапанную песню «Смерти нет».
«Кто может жить в России?»
Спектакль проходил в рамках фестиваля «Вишневый лес», для чего я впервые за историю «Гоголь-центра» пришел на спектакль белым человеком, и на своей фамилии ( ! — до сих пор не могу поверить) Получил место в 7-м ряду, правда сразу перешел на 1-й, благо стулья бесплатные, правда в небольшом количестве остались. Экстрим для меня случился в другом — всю предыдущую неделю меня тренировали, как-то еще шевеля ногами и стараясь не упустить самые важные меры из намеченного заранее, в результате заветной даты посещения «Гоголь-центра». «, Я ушел перед собой. Преувеличения еле дышат, и совершенно вне связи с происходящим на сцене у меня было кровотечение в третьем акте — это было приятно, понятно, немного, и, как ни крути, на сцене В общем, на настройку влияет — весь следующий после «кому в России хорошо живется» день ложился полумерно и никуда не денся.Тем не менее, я хотел увидеть выступление Серенникова, и оно того стоило, и я удовлетворен тем, что пришел, и что я рад, что я обошелся без них, признать себя чрезмерным, потому что при нынешнем состоянии проблемы организационной характер я бы точно не получил.
Экстрим для меня случился в другом — всю предыдущую неделю меня тренировали, как-то еще шевеля ногами и стараясь не упустить самые важные меры из намеченного заранее, в результате заветной даты посещения «Гоголь-центра». «, Я ушел перед собой. Преувеличения еле дышат, и совершенно вне связи с происходящим на сцене у меня было кровотечение в третьем акте — это было приятно, понятно, немного, и, как ни крути, на сцене В общем, на настройку влияет — весь следующий после «кому в России хорошо живется» день ложился полумерно и никуда не денся.Тем не менее, я хотел увидеть выступление Серенникова, и оно того стоило, и я удовлетворен тем, что пришел, и что я рад, что я обошелся без них, признать себя чрезмерным, потому что при нынешнем состоянии проблемы организационной характер я бы точно не получил.
Постановку по поэме Некрасов готовил долго сильверников. Актерам удалось прокатиться «по России», снять документальный фильм по мотивам «погружения в атмосферу русской жизни» (это было каким-то образом показано, я не видел, но хотелось бы подумать, что с « «погружение» в дух Льва Додина, у этой идеи было мало общего и если бы не публика в конце концов, то непосредственные участники процесса действительно что-то дали). Тем не менее, «Русь» в спектакле представлена более чем предсказуемо и мало чем отличается от той «Руси», которую можно было увидеть на сценариях «Гоголь-центра» в адаптированных к местным реалиям сценариях Фассбиндера, Триэле, Висконти, Части легенд. и Майенбург, А также ураганы Гончарова и, в первую очередь, однозначно — Гоголя. Судя по всему, «мертвые души» начались для Серебренникова на определенном этапе той работы, которая на долгое время определила не только стилистику с набором весьма специфических типовых приемов, но и идейный, идеологический «формат» отношения режиссера. с учебным литературным материалом.С «классики» сильвентмен читает — и для этого серьезных интеллектуальных затрат труда не требуется, по классике — вневременные, архетипические, фундаментальные сюжеты, образы, мотивы — а затем собирает их в авторскую композицию условно-мистического, где персонажи а события текстов из школьных учебников уже не окутаны вечными для русской жизни явлениями, а отражениями сущностей и процессов несистемного, неисторического, оторванного от земного человеческого существования, и игры, и мистики.
Тем не менее, «Русь» в спектакле представлена более чем предсказуемо и мало чем отличается от той «Руси», которую можно было увидеть на сценариях «Гоголь-центра» в адаптированных к местным реалиям сценариях Фассбиндера, Триэле, Висконти, Части легенд. и Майенбург, А также ураганы Гончарова и, в первую очередь, однозначно — Гоголя. Судя по всему, «мертвые души» начались для Серебренникова на определенном этапе той работы, которая на долгое время определила не только стилистику с набором весьма специфических типовых приемов, но и идейный, идеологический «формат» отношения режиссера. с учебным литературным материалом.С «классики» сильвентмен читает — и для этого серьезных интеллектуальных затрат труда не требуется, по классике — вневременные, архетипические, фундаментальные сюжеты, образы, мотивы — а затем собирает их в авторскую композицию условно-мистического, где персонажи а события текстов из школьных учебников уже не окутаны вечными для русской жизни явлениями, а отражениями сущностей и процессов несистемного, неисторического, оторванного от земного человеческого существования, и игры, и мистики.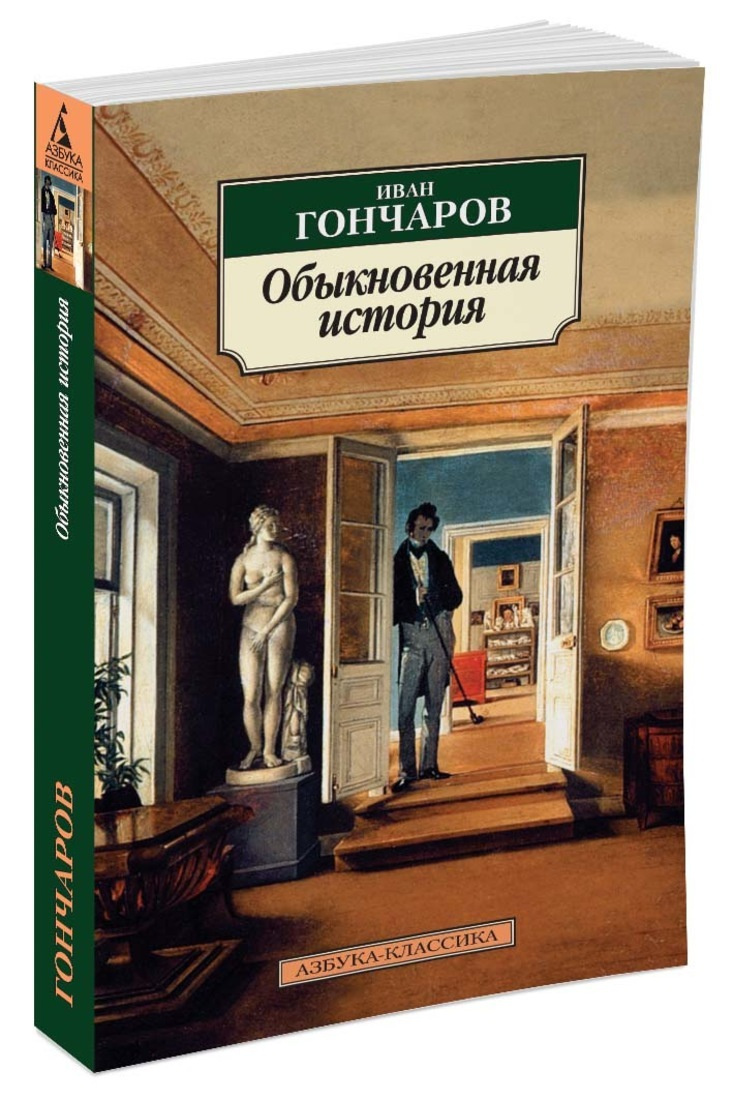 .Так получилось в «Обыкновенной истории»:
.Так получилось в «Обыкновенной истории»:
То же в «Кому на Руси жить хорошо» — в трехчастной, трехчастной композиции спектакля можно получить, сославшись на «Божественную комедию» (на которой , в своем первоначальном замысле, «мертвые души» были сосредоточены, между прочим, Гоголем), и на «ходящих на плавнях»; В странствиях Некрасовских «люди» сопровождают, помимо говорящих птиц, материализованные из поэзии Ангелов Милосердия, ярость демонов и т. Д. И в контексте, далеком от того сказочного фольклорного колорита, который пришел к ним в оригинале. источник.Правда, где тут «игра» и насколько серьезны в своем «мистицизме» серебряные люди — вопрос открытый, да и не самый занимательный.
Структура стихотворения Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» остается актуальной текстеструкологической проблемой, по крайней мере, оставалась двадцать лет назад, когда я учился. При жизни автора были опубликованы отдельные главы, в каком порядке их теперь читать — с 20-х годов велись ожесточенные филологические дискуссии, канонической версии, насколько мне известно, до сих пор не существует, и того, что стихотворение в большинстве публикаций завершается пением на «забитую и всемогущую мать» (в школе так учат и школьники) — мягко говоря, спорно, так как внутренняя хронология предполагает распределение материала в соответствии с крестьянским трудовым календарем. , соответственно с весны до осени из глав, которые успел закончить Некрасов, последним следует следовать за «мужичком».Но поскольку сильвентмен помещает сюжет Некрасовского в условно-мистический контекст, существующий вне исторического, календарного времени, то эпизоды стихотворения он выстраивает произвольно, иногда выдергивая отдельные микроснимки из одной части и перенося в другую, но в то же время не нарушая устоявшейся инерции восприятия структуры текста и наблюдая за движением от пролога к песне «Русь».
, соответственно с весны до осени из глав, которые успел закончить Некрасов, последним следует следовать за «мужичком».Но поскольку сильвентмен помещает сюжет Некрасовского в условно-мистический контекст, существующий вне исторического, календарного времени, то эпизоды стихотворения он выстраивает произвольно, иногда выдергивая отдельные микроснимки из одной части и перенося в другую, но в то же время не нарушая устоявшейся инерции восприятия структуры текста и наблюдая за движением от пролога к песне «Русь».
Пролог разыгран в духе студенческих этюдов — может быть, нарочито примитивно, с использованием телевизионных репортажей, интервью, клипа: я бы сказал, что начало не вдохновляет, слишком обыденно, предсказуемо, второстепенно, а актеры невыразительно, у которых есть Давно прошло от студентов Исполнители решили подумать о профессионалах.Далее герои примеряют все тот же стандартный, уже посещенный-современник в предыдущих спектаклях Гоголь-центра (а если бы только «Гоголь-центр») гардероб — тренировочный, куртки, комбинезон цвета хаки, халаты в цветочек, снимая второй. Hend from также использовала металлические шкафчики, размещенные слева по выдающейся цене. И музыканты были экипированы справа, и надо сказать, музыкальная составляющая «кому в России хорошо жить» гораздо любопытнее. В первой и третьей частях звучит музыка Дениса Хорова, кроме того, в музыкальной композиции Андрея Полякова обработка советских ретро-комочков, приятные короны spat rita, для которых придуман и подходящий визуальный образ официальной советской эстрады. звезда.
Hend from также использовала металлические шкафчики, размещенные слева по выдающейся цене. И музыканты были экипированы справа, и надо сказать, музыкальная составляющая «кому в России хорошо жить» гораздо любопытнее. В первой и третьей частях звучит музыка Дениса Хорова, кроме того, в музыкальной композиции Андрея Полякова обработка советских ретро-комочков, приятные короны spat rita, для которых придуман и подходящий визуальный образ официальной советской эстрады. звезда.
В целом из антуража легко сделать вывод, что под периодом «крепостного права» на нынешнем историческом этапе в спектакле понимаются советские годы (бытовые приметы: ковер, хрусталь, пионерские галстуки …), и нынешние 1860-70-е годы, когда создавалось стихотворение Некрасова, понимается как пост-предпочтение 1990-2000-е (в то время многие, и не только мужчины, но и доценты, воспитатели детских садов, вынуждены были обзавестись клетчатыми сумками и пошла не на поиски счастья, а просто за тряпкой на ресет).Но остаются непоколебимыми труба с тротуарами над ней (то ли канализация, то ли нефть и газ — она закрывает сцену весь первый акт) и стеной (то ли фабрикой, то ли тюрьмой, то ли границей) с колючей проволокой сверху. — время на стене пропадает, но возникает снова, и просто поверх колючей проволоки обсуждается светодиод «кому жить хорошо». И бакалейные коврики, и трубка со стенкой — конечно же, знаки, даже не метафоры, не символы, и эти знаки невозможно читать «буквально». Как вряд ли сильвентмены не знают со своими бывшими учениками, ну или они не могут узнать, что слово «ведро» у Некрасова употребляется не в стоимости объекта, а как единица измерения жидкости — в спектакле, Эмалированное ведро служит одним из атрибутов театральной игры, парадоксальным образом подчеркивая излишнюю ценность происходящего.Или в словах «Смерти нет, хлеба нет» не читать, какая возможность здесь говорится о том, что нет возможности жить, и конец не наступает, а не о том, что вне категория времени и категория смерти значения не имеют. Знай, читай. Но вложите свой смысл, по крайней мере, в противоположный источник.
— время на стене пропадает, но возникает снова, и просто поверх колючей проволоки обсуждается светодиод «кому жить хорошо». И бакалейные коврики, и трубка со стенкой — конечно же, знаки, даже не метафоры, не символы, и эти знаки невозможно читать «буквально». Как вряд ли сильвентмены не знают со своими бывшими учениками, ну или они не могут узнать, что слово «ведро» у Некрасова употребляется не в стоимости объекта, а как единица измерения жидкости — в спектакле, Эмалированное ведро служит одним из атрибутов театральной игры, парадоксальным образом подчеркивая излишнюю ценность происходящего.Или в словах «Смерти нет, хлеба нет» не читать, какая возможность здесь говорится о том, что нет возможности жить, и конец не наступает, а не о том, что вне категория времени и категория смерти значения не имеют. Знай, читай. Но вложите свой смысл, по крайней мере, в противоположный источник.
В таких сильно театральных, но использованных элементах, приземленная среда вторгается после решенного методом «этюда» сказочной пены с церковью. В роли цыпочки с гитарой — Георгия Кудренко, относительно новое существо для «Гоголь-центра» Креатив, я к «Кому …» я видел только в «Хармс.Мире» (а то и раньше, но я Может запутать — в «100% Furioso» на «платформе», где он ходил с более высокой улыбкой и наклеивал стикеры «Хочешь поиграть?», но может дело было не в этом). В роли пенопласта, дающего мужчину-пояс-самокрутку, в спектакле тоже не знаменитая — Евгения Добровольская. Появление Добровольской в «Гоголь-центре» закономерно — однажды, надолго (время летит!). Она участвовала в наборе учеников школы Серебренникова в MCAT Studio School, но я не успел заняться преподаю, пошла рожать.Теперь ее «возвращение» к прежним предполагаемым «питомцам» в виде птичьего корня отрадно, так логично. Но Серебренников воспринимает пену не через сказочную фольклорную символику — это нищенка-старуха-скитальца, родственная ей, Евгения Добровольская, Тимофеевна в 3-й части, а может и так. Но в 3-й части будет «дефиле» символических девушек «птичек» в пышных псевдо-платьях, словно из сборников Зайцевской славы, что финальное появление Добровольской уведет ее настоящую, злосчастную пьющую Тимофеевну из дома.
В роли цыпочки с гитарой — Георгия Кудренко, относительно новое существо для «Гоголь-центра» Креатив, я к «Кому …» я видел только в «Хармс.Мире» (а то и раньше, но я Может запутать — в «100% Furioso» на «платформе», где он ходил с более высокой улыбкой и наклеивал стикеры «Хочешь поиграть?», но может дело было не в этом). В роли пенопласта, дающего мужчину-пояс-самокрутку, в спектакле тоже не знаменитая — Евгения Добровольская. Появление Добровольской в «Гоголь-центре» закономерно — однажды, надолго (время летит!). Она участвовала в наборе учеников школы Серебренникова в MCAT Studio School, но я не успел заняться преподаю, пошла рожать.Теперь ее «возвращение» к прежним предполагаемым «питомцам» в виде птичьего корня отрадно, так логично. Но Серебренников воспринимает пену не через сказочную фольклорную символику — это нищенка-старуха-скитальца, родственная ей, Евгения Добровольская, Тимофеевна в 3-й части, а может и так. Но в 3-й части будет «дефиле» символических девушек «птичек» в пышных псевдо-платьях, словно из сборников Зайцевской славы, что финальное появление Добровольской уведет ее настоящую, злосчастную пьющую Тимофеевну из дома. социально действующий план для данного призрака в целом загадка.Несмотря на то, что, как и 1-е, 3-е действие начинается с откровенной студенческой капусты, с «крутящих» лошадей и с интерактива: публике в зале предлагают налить водку взамен искреннего, убедительного заявления о том, что человек думает, что чувствует себя счастливым — Мое удивление, «счастливого», этот «пир на весь мир» раскрывается в достаточном количестве, хватит бы запасов алкоголя.
социально действующий план для данного призрака в целом загадка.Несмотря на то, что, как и 1-е, 3-е действие начинается с откровенной студенческой капусты, с «крутящих» лошадей и с интерактива: публике в зале предлагают налить водку взамен искреннего, убедительного заявления о том, что человек думает, что чувствует себя счастливым — Мое удивление, «счастливого», этот «пир на весь мир» раскрывается в достаточном количестве, хватит бы запасов алкоголя.
Вторая часть перформанса — «Drunk Night» — в чистом виде придумана и исполнена как отдельный плагин номер Music and Plastic Performance.Музыку для женского вокального коллектива написал Илья Дхемуцкий (сценарист «Героя нашего времени», принадлежащий «Герою» Серенниковникова в Большом театре), для пластики в «Ответе Антона Адасинского». Музыкальный план намного выигрышнее и выразительнее хореографического. Собственно, хореографию, танец этого ущербного «физического театра» (термин ущербный сам по себе, но здесь я его не подбираю) называть языком не получается. Такое ощущение, что кроме вытаскивания времени других задач Адасинская для себя сюда не ставила.Майка юных «мужчин» в конфликтах за пение женского хора с участием одного мужского голоса (партия Андрея Кёлкова, в 1-й части убедительно говорящего за помещиком — «Батюшка»), живые пирамиды, покачиваясь на канатах, финальное «соло» Филиппа Авдеева — Среди «семерых временнообязанных» в своей первой части самый умный, с бородой, в очках, а там сразу дают в лицо, остальным в первом акте ходит окровавленный, с зажимами в носу (ну практически, так как я сидел в зале на 3-м, мне нужно было себя заставить…), и вот, когда меня на сцене бомбардируют и познают, пока хор пел «Timed Light, правда нет, жизнь Тошна, боль сильна …», идут его партнеры по пластическому ансамблю. В темноте и в глубине 1-й части, свободной от сценографии и неожиданно просторной площадки, Авдаев остается под каплями на вершине искусственного дождя — ну, вот Бог, это невпопад, я бы даже сказал, что непродолженный . Возможно, в ритмической структуре трехчастной композиции спектакля такая музыкально-пластическая интермедия имеет определенный вес, но она содержательна, ничего не добавляет.
Такое ощущение, что кроме вытаскивания времени других задач Адасинская для себя сюда не ставила.Майка юных «мужчин» в конфликтах за пение женского хора с участием одного мужского голоса (партия Андрея Кёлкова, в 1-й части убедительно говорящего за помещиком — «Батюшка»), живые пирамиды, покачиваясь на канатах, финальное «соло» Филиппа Авдеева — Среди «семерых временнообязанных» в своей первой части самый умный, с бородой, в очках, а там сразу дают в лицо, остальным в первом акте ходит окровавленный, с зажимами в носу (ну практически, так как я сидел в зале на 3-м, мне нужно было себя заставить…), и вот, когда меня на сцене бомбардируют и познают, пока хор пел «Timed Light, правда нет, жизнь Тошна, боль сильна …», идут его партнеры по пластическому ансамблю. В темноте и в глубине 1-й части, свободной от сценографии и неожиданно просторной площадки, Авдаев остается под каплями на вершине искусственного дождя — ну, вот Бог, это невпопад, я бы даже сказал, что непродолженный . Возможно, в ритмической структуре трехчастной композиции спектакля такая музыкально-пластическая интермедия имеет определенный вес, но она содержательна, ничего не добавляет. Если только это не позволяет вам оставаться впереди 3-го акта.
Если только это не позволяет вам оставаться впереди 3-го акта.
Кому хорошо жить в России — это уже не вопрос к Некрасову, даже не риторический: понятно, что кому, всем плохо. Вопросы в середине 19-го сформулированы иначе — сначала «кто виноват?», Потом «что делать?». Первому ответили — виновато крепостное право. Потом крепостное право отменили, жить веселее и разгула в России никто не стал, то на вопрос «Что делать?» Предложили ответ — необходимо, чтобы средствами производства владели те, кто работает, ну типа «земля — крестьяне» и т. Д.Попробовал потом, в 20 веке по рецептам 19 века построить справедливое, социалистическое общество — опять не помогло, получилось то же, что было раньше, только хуже, уродливо и кровожадно. Уже на нашей с Памятью Кирилла Семеновича (целевая аудитория Гоголь-центра в подавляющем большинстве, тогда еще не достигшая сознательного возраста) снова прозвучали те же, из 19 века, вопросы, с новыми ответами: виноваты, мол, советские власть и коммунистическая идеология, а собственность надо приватизировать и раздавать в частные руки. Пробовали вместо социализма Частная собственность — опять ничего не выходит. Словом, сюжет больше для Салтыкова-Щедрина, а не для Некрасова. Вот и сильверников (который, кстати, был с прозой Салтыкова-Щедрина и, не только на мой взгляд, «Владыка Головы» — одна из вершин его режиссерской карьеры) Через выпуски Некрасова и В ответной истории ответы выдаются на обобщения не социально-политического, а антропологического порядка: бар = раб.
Пробовали вместо социализма Частная собственность — опять ничего не выходит. Словом, сюжет больше для Салтыкова-Щедрина, а не для Некрасова. Вот и сильверников (который, кстати, был с прозой Салтыкова-Щедрина и, не только на мой взгляд, «Владыка Головы» — одна из вершин его режиссерской карьеры) Через выпуски Некрасова и В ответной истории ответы выдаются на обобщения не социально-политического, а антропологического порядка: бар = раб.
Бар-раб — Палиндром Неоригинал и шутки не самые остроумные, но написанные на листах бумаги в руках художников эти три буквы читаются справа, слева и справа по-разному, но выражают по сути идентичную концепцию, безусловно не существует одно без другого — проблема спектакля «Кому в России хорошо жить» исчерпывающе характеризует и определяет не только идейную перспективность, но и структурно-композиционную особенность спектакля, в частности, выбор фрагментов для инсценировки .Например, в композицию не попала такая запоминающаяся глава, как «попса». И я не думал, что это связано со страхом «задеть чувства верующих» — это, конечно, с православными в очередной раз больше свяжется со своими. Кстати, когда в финале третьей части парень выскочил из зала и стал размахивать черный флаг с черепом перед артистами, которые носят футболки с одним слогом поверх других Футболки с другими , но тоже преимущественно «патриотического» содержания (типа «россияне не сдаются»), хотя ребята на сцене на него никак не отреагировали, я сначала решил, что это православный, но быстро понял, что православные в зале не остались бы качать, православный выходил бы на сцену, он бы начал кричать и драться, как обычно православный, а этот махнул и оставил анархиста, как оказалось, оказалось, он был написан на флаге «свободы» или смерть ».Но ведь руководитель «Попа» действительно должен был бы прийти во двор, кроме того, что описываемые в нем реалии еще мелочность чучела — главное, чего бы не было в спектакле спектакля, пусть Про помещика и все-таки для Серебренникова Аналоги не «решетки», а «рабы», то есть пресловутые «русские люди», как бы любимые Некрасовым.
Кстати, когда в финале третьей части парень выскочил из зала и стал размахивать черный флаг с черепом перед артистами, которые носят футболки с одним слогом поверх других Футболки с другими , но тоже преимущественно «патриотического» содержания (типа «россияне не сдаются»), хотя ребята на сцене на него никак не отреагировали, я сначала решил, что это православный, но быстро понял, что православные в зале не остались бы качать, православный выходил бы на сцену, он бы начал кричать и драться, как обычно православный, а этот махнул и оставил анархиста, как оказалось, оказалось, он был написан на флаге «свободы» или смерть ».Но ведь руководитель «Попа» действительно должен был бы прийти во двор, кроме того, что описываемые в нем реалии еще мелочность чучела — главное, чего бы не было в спектакле спектакля, пусть Про помещика и все-таки для Серебренникова Аналоги не «решетки», а «рабы», то есть пресловутые «русские люди», как бы любимые Некрасовым.
В первой части формулировки присутствует необычайно трогательный эпизод — взятый из конца стихотворения (если посмотреть на обычный порядок публикации глав) и фрагмент «про верность Холопа-Якова» есть. Ближе к началу спектакля, где страшно даже в сравнении со многими другими некраковскими микро. История помещика Поливанова и его крепостного слуги Якова: неспособный, контролируемый помещик, снимающий девушку Ариш своему жениху, племяннику своего Верный возлюбленный раб Гриш, составивший «соперника» новобранцам.Калоп Якова был наказан, потом он пришел просить прощения, но через некоторое время она забрала Барина, въехала в овраг и он сам повесился, оставив в овраге не того хозяина. Барина нашла охотника, помещик выжил и вернулся домой, уступив «грех, грех!» Успокой меня! «Здесь примечательно, что Серебренники, помимо Поливанова и его Якова, акцентируют внимание на любви Гриши и Ариши — в стихотворении, обозначенном парой строк и упомянутом в то время, молодой парень с девушкой становятся полноценными персонажами.Свободный от рабского ига, от присущего старому страху, а вместе с тем и полностью от всякой одежды (смотрел композицию, где играет Георгий Кудренко, но с ним заявлен Александр Горкилин — оказывается, в другом сочинении Горклина без трусиков бега? Хорошо хоть еще раз) молодых бросают в объятия, но только тогда жених сразу оказывается в деревянном ящике.
Ближе к началу спектакля, где страшно даже в сравнении со многими другими некраковскими микро. История помещика Поливанова и его крепостного слуги Якова: неспособный, контролируемый помещик, снимающий девушку Ариш своему жениху, племяннику своего Верный возлюбленный раб Гриш, составивший «соперника» новобранцам.Калоп Якова был наказан, потом он пришел просить прощения, но через некоторое время она забрала Барина, въехала в овраг и он сам повесился, оставив в овраге не того хозяина. Барина нашла охотника, помещик выжил и вернулся домой, уступив «грех, грех!» Успокой меня! «Здесь примечательно, что Серебренники, помимо Поливанова и его Якова, акцентируют внимание на любви Гриши и Ариши — в стихотворении, обозначенном парой строк и упомянутом в то время, молодой парень с девушкой становятся полноценными персонажами.Свободный от рабского ига, от присущего старому страху, а вместе с тем и полностью от всякой одежды (смотрел композицию, где играет Георгий Кудренко, но с ним заявлен Александр Горкилин — оказывается, в другом сочинении Горклина без трусиков бега? Хорошо хоть еще раз) молодых бросают в объятия, но только тогда жених сразу оказывается в деревянном ящике. Неошрасова, если я не ошибаюсь, о дальнейшей судьбе призывника Гриши ничего не сказано, может он и выжил на солдате, но служба у Некрасова была долгой, и сильверников, мысли запутанно, без сомнения у него любовь Сюжет последнего гвоздя: умирает молодой человек, позволивший себе свободу чувств без оглядки на социальные преграды.Но что еще важно — сцена «про примерный холод» композиционно помещается в раздел «Счастливый», а Яков «отомстил» Барине тем, что его руки наложили на руки, оказывается в одном гулять с холопами, лизать для баров дорогие иностранные блюда с посудой.
Неошрасова, если я не ошибаюсь, о дальнейшей судьбе призывника Гриши ничего не сказано, может он и выжил на солдате, но служба у Некрасова была долгой, и сильверников, мысли запутанно, без сомнения у него любовь Сюжет последнего гвоздя: умирает молодой человек, позволивший себе свободу чувств без оглядки на социальные преграды.Но что еще важно — сцена «про примерный холод» композиционно помещается в раздел «Счастливый», а Яков «отомстил» Барине тем, что его руки наложили на руки, оказывается в одном гулять с холопами, лизать для баров дорогие иностранные блюда с посудой.
В эпизоде «Подвиг», похожий на реабилитацию, особенно заметно, «решетки», конечно, не оправдывают, но ответственность за случившееся, в частности, за гибель Агапа, в большей степени на «рабы» с их готовностью призрачно унизить Будущее (кстати, если я ничего не упустил, Серебренников не говорит, что крестьянам за свою комедию не пустили помещиков заполненных лугов, обещанных наследниками, то есть не в решетках обманщиков, случай снова), с стремлением понравиться кому угодно Любые акции, с умением подчиняться без вины, с бесконечным терпением, со всем. Рабство, которое нельзя отметить указом наверху, проводить реформы, обратное воспитание, просвещение — мне было очень приятно, что примерно в то время, когда человек Белинского и Гоголь страдают от базара, разжег скандал сильверников и не пытается, сознательно что ему еще сто лет, и скоро немного. «Он спел воплощение счастья народа» — не о Серебренникове и не о его исполнении. Такой неожиданный трезвый взгляд на меня в «Кому в России хорошо живется» подкупил.Ешь Туррай, Яша!
Рабство, которое нельзя отметить указом наверху, проводить реформы, обратное воспитание, просвещение — мне было очень приятно, что примерно в то время, когда человек Белинского и Гоголь страдают от базара, разжег скандал сильверников и не пытается, сознательно что ему еще сто лет, и скоро немного. «Он спел воплощение счастья народа» — не о Серебренникове и не о его исполнении. Такой неожиданный трезвый взгляд на меня в «Кому в России хорошо живется» подкупил.Ешь Туррай, Яша!
Рабство Как счастье не просто привычное, нормальное, единственно возможное, а желаемое, дорогое для рабского государства: так я увидел главный предмет размышлений Серебренникова в связи с его этапным развитием поэмы Некрасова. Его не ошеломляет кульминация третьей части и всю пьесу, которую он ставит «Крестьянин» — история женщины, потерявшей все дорогое, и, стоит только послушать ее печальную историю, а не из-за жестокости помещиков после отмены крепостного права.В роли Тимофеевны — Евгения Добровольская. И нельзя не сказать, что его актерская работа в третьем акте хотя бы на порядок выше остальных. Необходимо и отметить, что для самого волонтера эта роль не самая совершенная и не раскрывающая что-то в ее актерской натуре, а просто подтверждающая ее высочайшее мастерство — в чем-то противоположном, и в чем-то очень похожем на женскую судьбу, которую она недавно сыграла. по случаю юбилея в спектакле МХТ «Деревня дураков» на ином качестве и на современной литературной подложке (поэзию Некрасова можно трактовать по-разному, а проза ключевого кресла — просто нести свет):
Однако я бы заметил образ Тимофеевны, созданный Евгенией Добровольской, не просто как отдельную, восходящую личную актерскую игру, а также от того, как долго рутина в постановке Серебренникова прослужила трагедию, в общем немыслимую. По любым цивилизованным меркам чудовищная жизнь героини.Тимофеевна ведет свой рассказ, навязывая «мужскую» кашу из кастрюли под аккомпанемент голоса Марии Падзаевой, в которой подавленная боль отражается косвенно — ведь выход Тимофеевны в составе Серебренникова происходит в рамках «Пир для весь мир », и именно« крестьянин »становится апофеозом Праздник обреченных — не предвещающий скорого празднования добра, а, напротив, напоминающий поминовение истины, лучи света в темном царстве, которые даже недавно могли кого-то обмануть, порождали иллюзорные надежды.Как нет в сочинении Серебренникова на стихотворение Некрасова, эстрадного мастера «Поп», так нет в нем места и Гриче Доброзлонову. «Дело народа, его счастье, свет и свобода прежде всего» — этот текст видоизменен речитативом. «Русь не утонет, Русь как убитая, но я поймал искру в ее спрятанном, они заблудились, они были неразумными, гора горы была наношене» и это не было озвучено вслух, это было поставлено на экран финальные титры у всех, а освежение «вслух прозвучит» — не из стихотворения Некрасова, а из песни группы «Гражданская оборона».Как вы понимаете, последнее — я, признаться, не догоняю, но очевидно, что там полтора часа и история, и историософия, и общественно-политическая мысль, а после нее искусство художественно-ориентированное. на вопрос вернулся даже не Некрасовский (кто в России живет хорошо), даже не Чернышевский (что делать), а Герзовский (кто виноват). Постановка регресса однозначна, вопрос «Кто виноват», как и все остальные, тоже риторический, и к новому «что делать» я точно не живу.(Попав в БДТ, мол, его пытались поднять на материале Чернышевский — сам, естественно, не видел, по отзывам — не получилось). И незачем было так далеко ходить, так что отчаянно спорить — хватило бы на себя объективного взгляда.
Есть много деталей повторяющихся, второстепенных, перегружающих образно-символический ряд и способствующих развитию основных мыслей. Это, скажем так, ироничные нарушения словарного запаса, комментарии к архаичной лексике (прием из режиссерского рассмотрения покойного Юрия Любимова).И необязательные, орнаментальные «виньетки» (вроде вышивки «под триколор»). И влепленная «фишка» с надписями на футболках (в финале с маскировкой что-нибудь еще, но в 1-й части Персонажа Авдеева на Т- рубашка что-то вроде «в этом обществе будущего нет» — не помню точно, но хорошо помню, ведь хор в «золотом петушке» Серебренникова на рубашках был точно так же начертано «твое, душа и тело, если бить» нам, так по делу »). И бессмысленные, ну в крайнем случае непонятные пластические фигуры, особенно в хореографии Адасинского для 2-й части — загадкой для меня были упражнения некоторых участников действа с пластикой. труба — и можно ли воспринимать как «вырезку» из трубы, пересекавшей сцену, частями 1-мамы, или это какой-то отдельный символ, или просто объект для упражнений на пантомиму?
В то же время, безусловно , «кто хорошо живет в России» — это несанкционированное, невыносимое условие. n, абсолютно формат для продукта «Гоголь-центр» и, несмотря на то, что неровная, качественная работа; Есть отдельные моменты, способные эмоционально зацепить (я выделил как минимум два таких — в 1-й части с Гришей-Кудренко и 3-1 с Тимофеевным-Добровольской), есть какие-то формальные находки, не по дебюту, а более-менее оригинальные, не твердая вторичная.Но творческого поиска в пьесе нет, на мой взгляд, его нет, нет эксперимента, риска, вызова — не только из-за боязни курантов православно-фашистской цензуры (тоже, наверное, во многих смыслах). оправданные и особенно отговорки в нынешних нестабильных для этой «Городской Культуре Культуре» Ситуациях), но и опасения, нежелание жертвовать устоявшимся личным статусом, имиджем, репутацией, если говорить о Серебренникове лично. И хотя я почему-то, несмотря на плохое физическое состояние, «Кому в России хорошо живется» смотрел с интересом и, как говорит в таких случаях сумасшедший профессор (в том числе, конечно, среди прочих многочисленных маленьких любителей искусства, присутствовавших на премьере «Гоголя»). Center «), n и in к em с lu и ae не позволили бы себе это событие — определенно, событие должно быть пропущено.
Все-таки для меня нет искусства, нет творчества, где провокация подменяется манипуляциями. А «Кому в России хорошо жить» Серебренникова — рассказ крайне манипулятивный, монологичный, где-то, и что мне особенно неприятно, назидательный. Сильвентмен в каждом решении точно знает, какую реакцию хочет получить в ответ — иногда он манипулирует публикой довольно тонко и ловко, иногда грубо Топорн, в некоторых случаях расчет оправдан на двести процентов, в некоторых меньше, но диалог такой подход Изначально в принципе не подразумевает, режиссер просто жует (и не в первый раз, что обидно и неприятно) длинноволосый привкус жвачки, а потом подает на блюдечке под видом деликатес — допустим, и разжевывание качественное, но тушить его на деликатес я, извиняюсь, не готов.Хочется, чтобы со Сцены Гоголь-центра (а где еще — выбор небольшой, кольцо сжато) мысли транслировались не с чужого плеча и не в заводской упаковке, а живые, окутанные, пусть и ярко выраженные малость ближе . К сожалению, на новом этапе Серебренникова я не открыл для себя ничего нового, ничего острого, ничего важного, ничего такого, чего бы я не знал без Серебренникова и до того, как попал в Гоголь-центр.
Я выражаю сожаление, а отчасти раздражение, потому что при всей драматичности (и в некоторой степени комичности) я бы не хотел проект с таким помпезным, пафосным и притягательным энтузиазмом основателей, который начал. чем три года назад загибался на корень — а проще сказать было искусственно неудобно — раньше срока.Более того, совсем недавно мне неожиданно пришлось подключиться к дискуссии с точки зрения апологета «Гоголь-центра» и Серебренникова, не без пользы — во многом в его отношении к проекту, его постановкам, к сильверникову-режиссеру на нынешнем этапе. свою карьеру — я окончательно для себя прояснил и четко сформулировал:
А может, иначе получится с очередным опусом «Гоголь-центра» — подготовленные вместе с серебряными учениками «Русские сказки» выходят сразу после «живите хорошо» в России »и неофициально продолжаем дилогию.А на «Русские сказки» я сильно заранее (я сам его просил) отдать билет, теперь как бы ни складывались обстоятельства, касающиеся здоровья и состояния, и отправляюсь в «сказки». В этой ситуации мне нравится не что иное, как стабильная работа «Гоголь-центра» хотя бы в ближайшем будущем, потому что у меня уже есть билет на руки и за него заткнули деньги.
Прошлая продукция — История производства
ПОДДЕРЖКА 23 июня — 25 июля 2021 г. | Трансляция в цифровом формате онлайн через Overture +
Представлено Black Lives, Международным проектом Black Words и Writers Theater
Автор Реджинальд Эдмунд
Режиссер Симеилия Ходж-Даллавэй
У Маркуса новая жена, удобная работа, и все, кажется, становится на свои места — пока его медовый месяц не прерывается электронным письмом с работы, которое увольняет его.Чтобы свести концы с концами, он становится водителем маршрутного такси, доставляя пассажиров из всех слоев общества на вечеринки, бранчи и встречи. Пассажиры варьируются от глупых до соблазнительных — до откровенно пугающих. Но пока Маркус держит свое радио включенным и остроумие, он ничего не может с собой поделать… верно?
ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ 28 апреля — 30 мая 2021 г. | Трансляция в цифровом формате онлайн через Overture +
Автор Анна Зиглер
Хореография Стеф Пол
Режиссер Кейра Фромм
Когда молодой российский теннисист и американская суперзвезда в расцвете сил встречаются на центральном корте, трудно понять, разворачивается ли величайшая драма вне корта или на его площадке! В то время как стремительные залпы действий между теннисными матчами в прайм-тайм и наиболее поворотными моментами в личной жизни соперников и их одинаково целеустремленных романтических партнеров, проницательный и проницательный драматург Анна Зиглер (, фото 51, ) вовлекает вас в умы всех четверых, как они сталкиваются с проблемами в спорте, жизни и любви.В результате получается динамичный и динамичный монтаж, в котором рассказывается о семье, о жертвах, которые мы приносим для успеха, и о наследии, которое мы оставляем после себя.
ДВУМЯ ЗАЧИСТКАМИ: РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КЭРОЛ, ДВА ПУТИ 3 декабря 2020 г. — 3 января 2021 г. | Трансляция в цифровом формате в Интернете
One-Man A Christmas Carol by Charles Dickens , адаптировано и с участием Michael Halberstam , режиссер Stanton Long
Manual Cinema’s Christmas Carol by Manual Cinema , адаптировано из Чарльз Диккенс
Известная персональная адаптация Майкла Хальберштама праздничной истории о привидениях Чарльза Диккенса, поставленная Стэнтоном Лонгом, в паре с мировой премьерой постановки A Christmas Carol известной чикагской театральной группы Manual Cinema , заново изобретающей сказку Скруджа для современного мира с их фирменным кукольным театром теней, искусным рассказыванием историй и музыкой.
НАКЛАДКА FLY 5 февраля — 15 марта 2020 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Лидия Р. Даймонд
Режиссер Рон О.Дж. Парсон
Летние выходные на Martha’s Vineyard, начинающиеся на расслабляющие выходные, обостряются, когда братья ЛеВэй приводят домой своих новых подруг, чтобы познакомиться со своими богатыми и импозантными родителями. Но мамы нет, а папа ведет себя странно. Когда новички оказываются под пристальным вниманием семьи, давно скрываемая семейная напряженность всплывает на поверхность, и к концу выходных почти все на Винограднике оказываются под микроскопом, пытаясь спорить о своем классе, расе и культурных ожиданиях.
NICETIES 6 ноября — 8 декабря 2019 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Элеонора Берджесс
Режиссер Марти Лайонс
В THE NICETIES Элинор Берджесс, опытный профессор Лиги Плюща проводит обычные рабочие часы с амбициозной молодой студенткой, чтобы обсудить ее тезис: если историю пишут победители, кто рассказывает историю угнетенных? Вскоре споры по поводу словарного запаса и цитаты из Википедии превращаются в опасные дебаты, поскольку обе женщины страстно отстаивают свою точку зрения и свое личное мировоззрение — пока одна из них не ставит все на кон, чтобы доказать свою правоту.
КУКОЛЬНЫЙ ДОМ 25 сентября — 15 декабря 2019 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Хенрик Ибсен
Адаптировано Сандра Дельгадо и Майкл Хальберштам
Режиссер Лавина Джадхвани
Эта целенаправленная одноактная адаптация классического произведения Генрика Ибсена оживляет захватывающую историю яркой молодой Норы Хелмер, глубоко преданной своему мужу Торвальду. Однако все не так, как кажется: когда Нора принимает меры, чтобы защитить своего мужа, она невольно подвергает их обоих опасности, испытывая узы их брака и заставляя их подвести итоги своих отношений и спросить себя, насколько хорошо они действительно знают одного. другой…
В ЛЕС 14 августа — 29 сентября 2019 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Музыка и слова Стивена Сондхейма
Книга Джеймса Лапина
Бродвейская постановка Джеймса Лапина
Оркестровки Джонатан Туник
Музыкальное руководство и реорганизация Мэтт Дейтчман
Хореография
Хореография От режиссера Гэри Гриффина
Когда бездетный пекарь и его жена отправляются в лес, чтобы снять семейное проклятие, они встречают Джека (с его бобовым стеблем), Золушку (и ее принца) и Красную Шапочку (и ее волка)! Эти знакомые персонажи оказываются в совершенно незнакомых обстоятельствах и должны выдержать темноту леса, чтобы разрушить проклятие, победить свои страхи и выяснить, действительно ли то, чего они всегда желали, является тем, чего они хотят.
рядом с нормальным 8 мая — 30 июня 2019 г. | Исполняется в 325 Tudor Court
Музыка Тома Китта
Книга и слова Брайана Йорки
Музыкальное сопровождение Андры Велис Саймон
Хореография Иамона Фоули
Режиссер Дэвид Кромер
Внешне Гудманы кажутся обычной американской семьей: дом в пригороде, белый заборчик и двое сообразительных детей. Но внутри их жизнь совсем не обычная, с давно похороненными секретами, которые угрожают разлучить их.В этом взрывоопасном мюзикле с мощной лирикой и зажигательной музыкой используются критический юмор и жестокая честность, чтобы понять, как семейная травма может разрушить американскую мечту и в конечном итоге дать шанс для новых начинаний.
А НОМЕР 20 марта — 9 июня 2019 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Кэрил Черчилль
Режиссер Робин Уитт
Единственный способ изменить прошлое — создать новое … В поразительно знакомом будущем печальный отец пытается исправить ошибки, которые он допустил при воспитании сына, начав сначала с клона — или, скорее, с целым рядом ошибок. клоны.Но возможно ли искупить грехи прошлого? В мощном, непредсказуемом и разрушительном, тревожном фильме Кэрил Черчилль « Число » шокирующая история разворачивается, когда мужчины воссоединяются в течение нескольких встреч, вникая в то, что на самом деле произошло, и позволяя публике исследовать сами: кому вы доверяете и кто виноват ?
Черный низ Ма Рейни 6 февраля — 17 марта 2019 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Август Уилсон
Режиссер Рон О.Дж. Парсон
Эта инстинктивная американская классика служит главой 1920-х годов в эпическом «Цикле американского века» Августа Уилсона.То, что начинается как обычный сеанс записи, становится все более напряженным по мере роста напряженности между участниками блюзовой группы и владельцами звукозаписывающей студии. Белые продюсеры намерены использовать таланты группы — особенно одаренную и импульсивную Ливи, — но когда Ма настаивает на том, чтобы все было по-своему, напряжение накаляется, и игра переходит к неожиданной и жгучей кульминации.
Двенадцатая ночь, или что хочешь 7 ноября — 16 декабря 2018 г. | Исполняется в Тюдоровском дворе 325,
По сценарию Уильяма Шекспира
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
Романтическая, шумная и острая комедия Шекспира никогда не казалась более актуальной и веселой! Когда юная Виола терпит кораблекрушение на незнакомом берегу, предполагая, что ее брат-близнец утонул в том же корабле, она должна замаскироваться под мужчину, чтобы получить работу у местного герцога Орсино.Но когда ее просят развивать романтические интересы Орсино с могущественной Оливией, она оказывается запутанной во все более запутанном любовном треугольнике. Перекрещенные провода, перекрещенные цели и скрещенные подвязки изобилуют, что приводит к финальной сцене откровений, которая позволяет почти каждому жить долго и счастливо…
Ведьма 27 сентября — 22 декабря 2018 г. | Выполнено в 325 Тюдоровском суде
Автор Джен Сильверман
Вдохновленный Эдмонтонская ведьма Роули, Деккер и Форд
Режиссер Марти Лайонс
В сонной деревушке Эдмонтон творится озорство, и в этой умной современной басне на карту поставлена судьба мира.Когда эмоционально конфликтующий сын местного лорда и амбициозный новичок вступают в конфликт, помощь представляется им обоим в одном и том же обличье — как сам дьявол. Но пока эти двое молодых людей пользуются сделкой дьявола для достижения своих сомнительных целей, кто-то еще в городе стоит на своем — Элизабет, изгой, которую все считают ведьмой.
Вьетгон 15 августа — 17 сентября 2018 г. | Исполняется в Тюдоровском дворе 325,
Автор Куи Нгуен
Музыка и музыкальная постановка Габриэля Руиса
Хореография Томми Рэпли
Режиссер Лавина Джадвани
Это 1975 год, и двое молодых выживших (которые могут быть родителями драматурга, а могут и не быть) встречаются во вьетнамском лагере беженцев в центре Америки вскоре после падения Сайгона.Позволит ли им полюбить эту странную новую страну ковбоев, хиппи и байкеров? Безумно творческий и дерзкий стиль драматурга Куи Нгуена переворачивает стереотипы с ног на голову, смешивая историю и культуру в сексуальной, забавной и энергичной фантазии, поскольку он представляет, как две родственные души могли бы найти друг друга в неспокойное время.
Похороненный ребенок 9 мая — 17 июня 2018 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Сэм Шепард
Режиссер Кимберли Сеньор
Во время путешествия по стране из Нью-Йорка на западное побережье Винс и его девушка Шелли решают остановиться в сельском доме его бабушки и дедушки в Иллинойсе.Но когда они приезжают, ни его бабушка и дедушка, Додж и Хали, ни его отец Тилден и дядя Брэдли, похоже, не узнают и не помнят его. По мере того, как Винс ищет ответы, начинают появляться истины, раскрывающие глубокую коррозию этой разрозненной семьи, живущей в забытой Америке.
умных людей 21 марта — 24 июня 2018 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Лидия Р. Даймонд
Режиссер Халли Гордон
Четыре умных, привлекательных и самоуверенных молодых городских специалиста — врач, актриса, психолог и нейробиолог, изучающие реакцию человеческого мозга на расу — ищут любви, успеха и идентичности, одновременно пытаясь разобраться в тонкостях расовой и сексуальной политики.Эта новая игра с умным кнутом увлекательно и провокационно затрагивает текущие культурные дискуссии, с острым остроумием затрагивая глубокие вопросы о природе предрассудков.
Луна для заблудших 7 февраля — 25 марта 2018 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Юджин О’Нил
Режиссер Уильям Браун
В 1920-х годах в сельской местности Коннектикута Фил Хоган зарабатывает себе на жизнь на арендованных сельскохозяйственных угодьях, которые он надеется когда-нибудь полностью владеть, когда его домовладелец Джим Тайрон перейдет к нему в наследство.Хоган изгнал своих трех сыновей, но его высокая дочь Джози понимает своего отца и может постоять за себя. Когда двое узнают, что земля может быть продана из-под них, они придумывают план по ее спасению, который в конечном итоге раскрывает тайные желания, которые две одинокие души скрывали в течение многих лет.
Важность серьезности, 8 ноября — 23 декабря 2017 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Оскар Уайльд
Режиссер Майкл Хальберстам
Одна из самых умных комедий одного из величайших английских писателей, «ВАЖНОСТЬ БЫТЬ ЗАРАБОТАННЫМ» знакомит нас с Джеком и Алджерноном, двумя очаровательными холостяками, каждый из которых ведет двойную жизнь, которой помогает вымышленное альтер-эго по имени «Эрнест.Но когда они по-настоящему полюбят пару хороших молодых женщин, смогут ли они положить конец этой шараде и убедить грозную леди Брэкнелл, что они подходящие кандидаты для брака? В конце концов, «прелесть брака заключается в том, что он делает жизнь, основанную на обмане, абсолютно необходимой для обеих сторон».
КИХОТ: НА ЗАВОЕ СЕБЕ 27 сентября — 17 декабря 2017 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325
После Дон Кихот Микель Де Сервантес
Автор Моника Хот и Клаудио Вальдес Кури
Режиссер Клаудио Вальдес Кури
Эта увлекательная и творческая интерпретация классического романа Мигеля де Сервантеса переносит зрителей между периодами времени: от увлекательных вселенных, созданных Сервантесом, до параллельных реальностей нашего нынешнего мира.Попутно всеми любимый мечтатель Дон Кихот помогает придать новый смысл нашим победам и поражениям, пробуждая наши забытые желания и воспевая радости великой литературы.
TREVOR МУЗЫКАЛЬНЫЙ, 9 августа — 8 октября 2017 г. | Исполняется в 325 Tudor Court
Книги и слова Дэна Коллинза
Музыка Джулианны Уик Дэвис
На основе фильма, удостоенного премии Оскар Тревор
Оркестровки Грега Плиски
Музыкальное сопровождение Мэтта Дейтчмана
Хореография Джоша Принца
Марк Бруни
Познакомьтесь с Тревором, 13-летним мальчиком из 1981 года, чье яркое воображение ведет бурный путь самопознания.Занимаясь подростковым возрастом и всем, что с ним связано, Тревор начинает исследовать, что значит быть самим собой, находясь под влиянием своих друзей, родителей и своего музыкального кумира.
ПАРАД, 24 мая — 15 июля 2017 г. | Исполняется в 325 Tudor Court
Музыка и слова Джейсона Роберта Брауна
Совместно с Гарольдом Принсом
Музыкальное руководство Майкл Малер
Хореография Эрика Мак
Режиссер Гэри Гриффин
Этот волнующий, отмеченный премией Тони мюзикл исследует стойкость любви и надежды вопреки, казалось бы, непреодолимым препятствиям, рассказывая правдивую историю Лео Франка, еврея, выросшего в Бруклине, обвиненного в убийстве в Атланте 1913 года.Новаторский, смелый и наполненный парящей музыкой, Parade — это трогательная история любви, захватывающая тайна убийства, захватывающая драма в зале суда и мощное исследование невинности и наивности, сталкивающихся лицом к лицу с невежеством и предрассудками.
ТАЙНА ЛЮБВИ И СЕКСА, 5 апреля — 2 июля 2017 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325
Автор Батшеба Доран
Режиссер Марти Лайонс
Шарлотта и Джонни выросли вместе и теперь пытаются определить, может ли их близкая дружба быть чем-то большим.Однако, когда они обнаруживают, что именно влечет за собой «большее», это становится сюрпризом для них обоих — и для родителей Шарлотты, которые хранят свои секреты и обиды. Эта захватывающая и энергичная история сложных отношений представляет собой увлекательный и взрывной взгляд на расу, сексуальную идентичность и семейную динамику.
СЦЕНА 22 февраля — 2 апреля 2017 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Тереза Ребек
Режиссер Кимберли Сеньор
То, что начинается с забавной беседы на модной вечеринке на Манхэттене, быстро превращается в нечто более сложное.Когда близкие друзья Чарли и Льюис знакомятся с Клеа, решительной молодой женщиной, оставившей свой след на нью-йоркской сцене, это отправляет их на эмоциональные американские горки. Эта провокационная комедия-драма исследует темные грани приверженности и борьбу за баланс между подлинностью и амбициями.
ОХОТНИК И МЕДВЕДЬ 7 декабря — 29 января 2017 г. | Исполняется в 325 Tudor Court
Автор PigPen Theater Co
Режиссер Стюарт Карден и PigPen Theater Co.
Отлитая в мерцающем свете костра, эта комбинация пограничной истории о привидениях и современной притчи разворачивается в фирменном стиле PigPen Theater Co.: с использованием изобретательной постановки, увлекательного повествования, изобретательного кукольного театра теней и отмеченной наградами народной музыки для безудержного погружения. в самую темную часть леса.
ГОРЯЧИЕ ССЫЛКИ EAST TEXAS 19 октября — 29 января 2017 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Юджин Ли
Режиссер Рон О.Дж. Парсон
Расположенное в лесах Восточного Техаса кафе Top o ‘the Hill предлагает комфорт, утешение и общение для постоянных посетителей, которые приходят каждую ночь.Однако сейчас лето 1955 года, и времена меняются. Перед лицом деспотических законов Джима Кроу семь волевых местных жителей объединяют свои силы, чтобы защитить одного из них — до тех пор, пока немыслимое не застает их врасплох, навсегда изменив жизнь на Вершине холма.
ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ 7 сентября — 23 октября 2016 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Уильям Шекспир
Режиссер Майкл Халберстам и Скотт Паркинсон
Шедевр Шекспира о власти и заговоре, дружбе и предательстве — величайшая политическая драма из когда-либо написанных.Цезарь сделал Рим самой могущественной империей в мире благодаря своим блестящим военным стратегиям, а по возвращении из войн желает, чтобы республика, сопротивлявшаяся, короновала его королем. Когда его товарищи-сенаторы решают, что его продвижение должно быть остановлено, они приходят к жестокому и крайнему решению: великий человек должен пасть.
КОМПАНИЯ 15 июня 2016 г. — 7 августа 2016 г. | Исполняется в 325 Tudor Court
Музыка и слова Стивена Сондхейма
Книга Джорджа Фёрта
Первоначально спродюсировал и направил на Бродвее Гарольд Принс
Оригинальные оркестровки Джонатан Туник
Музыкальное руководство Том Вендафреддо Брок Клоусон
Режиссер Уильям Браун
Сейчас Бобби 35 лет, а он все еще холост, пытаясь найти способ завязать серьезные отношения без серьезных обязательств.Но поскольку его друзья — все пары, находящиеся на разных этапах своего брака — навязывают ему свои уникальные взгляды на функцию и дисфункцию отношений, Бобби вынужден подумать о том, чтобы ослабить свою решительную хватку на холостяцкой жизни и начать исследовать один из величайших вопросов жизни — что это значит быть живым?
27 апреля 2016 г. — 14 августа 2016 г. | Исполняется в Тюдоровском дворе 325,
Создано Тимом Райдером и Тимом Сниффеном
Написано Тимом Сниффеном
Режиссер Стюарт Карден и художественный руководитель Майкл Хальберштам
Этот веселый результат сотрудничества между Writers Theater и всемирно известным комедийным театром Чикаго «Второй город» задает интригующий вопрос: что происходит, когда самые узнаваемые персонажи из величайших американских пьес 20-го века внезапно обнаруживают, что разделяют одно и то же? сцена?
АРКАДИЯ 16 марта 2016 г. — 1 мая 2016 г. | Исполняется в Тюдоровском дворе 325,
Автор Том Стоппард
Режиссер-постановщик Майкл Халберштам
В самом сердце английской усадьбы XIX века, наполненной тайными желаниями, незаконными делами и профессиональным соперничеством, блестящий молодой студент предлагает потрясающую научную теорию.Двести лет спустя академические противники Ханна и Бернард пытаются разгадать заманчивые тайны, оставшиеся после ожесточенной битвы за интеллектуальное и сексуальное господство.
21 октября 2015 г. — 13 марта 2016 г. | Исполняется на 664 Vernon Ave.
Автор Джордан Харрисон
Режиссер Кимберли Старший
Это век искусственного интеллекта, но 86-летняя Марджори обеспокоена тем, что ее память может исчезнуть. Так продолжалось до появления Уолтера, загадочного и очаровательного юного посетителя, запрограммированного помочь Марджори раскрыть тонкости ее собственного прошлого.По мере того, как раскрывается истинная природа Уолтера, появляются новые уровни сложности, ведущие к глубоким вопросам о пределах технологий и о том, может ли память быть чисто человеческим изобретением.
28 апреля — 2 августа 2015 г. | Исполняется на 263 Park Ave (Glencoe Union Church)
Написано Джоном Патриком Шенли
Режиссер Уильям Браун
На фоне Америки 1960-х годов, в разгар политических и социальных перемен, поведение прогрессивного молодого священника ставится под сомнение сестрой Алоизиус Бовье, директором школы, чьи убеждения глубоко уходят корнями в традиции.По мере того, как действия и мотивации каждого из них исследуются и подозрения нарастают, эти двое втягиваются в битву воли, которая грозит необратимыми последствиями для всех участников.
Дневник Анны Франк 24 февраля — 16 августа 2015 г. | Исполняется по адресу: 664 Vernon Ave
Автор Фрэнсис Гудрич и Альберт Хакетт
Новая редакция Венди Кессельман
Режиссер Кимберли Сеньор
Необыкновенный дневник Анны Франк, столь же жизненно важный сегодня, как и когда он был впервые написан, стал неотъемлемой частью того, как мы помним один из самых мрачных периодов в истории человечества.Дневник, наполненный светлой душой молодого автора — ее «безграничным стремлением ко всему прекрасному и хорошему», также освещает взросление сложной, страстной молодой девушки, когда она влюбляется, превращается в женщину и борется с трудностями. чтобы выжить со своей семьей в хаосе войны и религиозных преследований.
Исаакиевский глаз 2 сентября — 21 декабря 2014 г. | Исполняется на проспекте Вернона, 664,
Автор Лукас Хнат,
Режиссер-постановщик Майкл Халберштам,
Это новое творческое произведение в игровой форме переосмысливает мир молодого Исаака Ньютона с помощью современного языка и гениального метатеатрального устройства.Когда молодой Ньютон встречает великого Роберта Гука — самого известного и могущественного ученого Британии, — возникающая в результате битва интеллекта и эго пульсирует остроумием, юмором и напряжением.
6 мая — 27 июля 2014 г. | Исполняется на 325 Tudor Court
Музыка и слова Алан Шмуклер | Книга Лаура Исон
Режиссер художественный руководитель Майкл Халберштам
Милая, обнадеживающая Тесса поклялась, что покончила с любовью, несмотря на все усилия и противоречивые советы ее родителей (и их любовников).В конце концов, никогда не бывает легко двигаться дальше, пока у вас не будет времени на исцеление. Но когда появляется красивый молодой незнакомец, Тесса должна решить, стоит ли бороться за идею любви.
Танец смерти 1 апреля — 3 августа 2014 г. | Исполняется на 664 Vernon Ave
Автор Август Стриндберг | В новой версии Конор Макферсон
Режиссер Генри Вишкампер
Шедевр Августа Стриндберга рассказывает восхитительно ядовитую историю развалившегося брака, приправленную черной комедией и едким юмором.Эта новая адаптация знаменитого драматурга Конора Макферсона привносит лиризм и жестокость в историю деспотичного капитана и его жены-манипулятора, а также «невинного» Курта, который наталкивается на них и быстро оказывается в ловушке злой игры пары.
HEDDA GABLER 7 января — 6 апреля 2014 г. | Выполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Хенрик Ибсен | Перевод Николас Рудалл
Режиссер Кимберли Сеньор
Идеалистическая героиня и бездушный антагонист в равных частях; жертва обстоятельств и мастер манипуляции, Хедда Габлер приводит в действие ряд схем, сея семена преднамеренного разрушения в попытке нанести удар.Результатом является путешествие порывов и эмоций, одновременно болезненно отчаянное и безумно страстное.
ПОРТОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 29 октября 2013 г. — 2 марта 2014 г. | Исполняется на 664 Vernon Ave
Автор Конор Макферсон
Режиссер Уильям Браун
Известный драматург Конор Макферсон (Мореплаватель, Сияющий Город, Дублин Кэрол) создает серию взаимосвязанных историй, исследующих сердце и душу трех поколений ирландцев. Легко взаимосвязанные истории трех мужчин на трех разных этапах жизни объединяют воедино историю, которая одновременно и воодушевлена, и трогательна в своем портрете обычных жизней.
СТАРИК И СТАРИНА 3 сентября — 1 декабря 2013 г. | Исполняется в Tudor Court, 325,
Автор PigPen Theater Co.
Режиссер — младший художественный руководитель Стюарт Карден и PigPen Theater Co.
Окунитесь с головой в театральную басню, воспевающую силу воображения! Сочетание резонансного повествования, энергичной инди-фолк-музыки и изобретательного кукольного театра создает театральный опыт, который покорит вас своим остроумием, стилем и глубиной эмоций.
ЛЖЕЦ, 21 мая — 11 августа 2013 г. | Выполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Дэвид Айвс | по комедии Пьер Корнель
Режиссер Уильям Браун
Непонимания, тайные планы и остроумная игра слов изобилуют в этом восхитительно гениальном и дерзком обновлении классической французской игры!
ЖЕЛТАЯ ЛУНА 16 апреля — 14 июля 2013 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Дэвид Грейг
Режиссер Стюарт Карден
Об этом безумном путешествии по высокогорью Шотландии в поисках отсутствующего отца рассказывается в серии лирических рассказов, которые погрузят зрителей в действие, создавая захватывающую драму красоты в темноте.
СЛАДКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 22 января — 14 апреля 2013 г. | Исполняется на 325 Tudor Court
Музыка Сая Коулмана | Слова Дороти Филдс | Книга Нила Саймона
Режиссер художественный руководитель Майкл Халберштам
Charity Valentine Проблемы не уникальны — это тупиковая работа, череда свиданий с одинаково несовершенными мужчинами и умение делать неправильный выбор. Конечно, в ее случае работа в качестве «хозяйки» танцевального зала, и все ее свидания, кажется, заканчиваются тем, что ее толкают в озеро, но это не поколеблет ее веру в то, что великие дела еще впереди.И, возможно, они…
ПИСЬМА 13 ноября 2012 г. — 17 марта 2013 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Джон У. Лоуэлл
Режиссер Кимберли Сеньор
В этом триллере о политике и дезинформации, действие которого происходит в России 1930-х годов, все обстоит иначе. Неформальное интервью быстро превращается в игру в кошки-мышки, в которой роли охотника и жертвы меняются без предупреждения, а то, что он вздрогнет последним, может означать разницу между жизнью и смертью.
ГАМЛЕТ 4 сентября — 25 ноября 2012 г. | Исполняется в Тюдоровском дворе 325,
По сценарию Уильяма Шекспира
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
Величайшая трагедия Шекспира — это в равной степени история о привидениях, политическая интрига, обреченный роман и тайна убийства, движимая одним из самых интригующих, загадочных и противоречивых персонажей литературы.
БЛОНДИНКА, Брюнетка и мстительный рыжий 22 мая — 29 июля 2012 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Роберт Хьюетт
Режиссер Джо Ханредди
Помешанная домохозяйка Ронда Рассел теряется в горячем моменте страсти, приводя в движение невероятную серию событий, которые колеблются в жизнях всех вокруг нее, когда одна исполнительница замысловато переплетает множество разных сторон истории Ронды.
НОЧНАЯ МУЗЫКА 1 мая — 12 августа 2012 г. | Исполняется на 325 Tudor Court
Музыка и слова Стивена Сондхейма | Книга Хью Уиллера
Режиссер Уильям Браун
Desirée Armfeldt всегда покоряла сердца мужчин. Когда оба ее любовника — и их жены — приезжают на выходные в деревню, безграничные возможности старого романа и вновь пробудившихся страстей приносят бесконечные сюрпризы.
ГЕСПЕРИЯ, 24 января — 18 марта 2012 г. | Исполняется в Тюдоровском дворе 325,
Рэндалл Колберн,
Режиссер — младший художественный руководитель Стюарт Карден
Когда Клаудия оставила Яна и свою жизнь в сфере развлечений для взрослых, чтобы вернуться к корням своего маленького городка, она нашла новый старт.Но когда Йен появляется на пороге ее дома всего за несколько недель до свадьбы, их совместное прошлое оживает.
ПЕРЕХОДНИК 8 ноября 2011 г. — 25 марта 2012 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Гарольд Пинтер
Режиссер Рон О.Дж. Парсон
Когда Астон приводит Дэвиса, быстро говорящего бродягу, в свой тесный дом, полный всяких всяких всяких всяких всяких всяких всяких всяких всяких проблем, Дэвис быстро понимает, что Астон и его брат Мик по-другому смотрят на мир вокруг них.Эти трое становятся маловероятным трио, отчаянно пытающимся соединиться, но всегда не попадающим в цель.
НАСТОЯЩЕЕ 13 сентября — 4 декабря 2011 г. | Исполняется в Тюдоровском дворе 325,
Автор Том Стоппард
Режиссер художественный руководитель Майкл Халберштам
Женатый драматург стирает грань между реальностью и его драмами на сцене, поскольку его личная жизнь распадается на его глазах в этом блестящем исследовании сложной природы любви, искусства и реальности.
ЖЕНА ДЕТЕКТИВА, 24 мая — 14 августа 2011 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Кейт Хафф
Режиссер Гэри Гриффин
Элис Конрой — мать двоих взрослых детей, владелица магазина рам и жена детектива из Чикаго. Когда ее мужа застреливают на работе, она пытается выяснить, кто это сделал … и почему.
ДОМ СЕРДЦА 19 апреля — 26 июня 2011 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Джордж Бернард Шоу
Режиссер Уильям Браун
В английской деревне дела начинаются, помолвки заканчиваются, а сердца и умы непоправимо попадают в ловушку дилеммы молодой женщины — выйти ли замуж по любви или из-за денег, как язвительно описывает гибель праздного класса драматург Джордж Бернард Шоу .
ДЕЛАЙТЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ 25 января — 20 марта 2011 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325
Автор Бретт Невё
Режиссер Уильям Браун
Сэм и Эдди Сиссон — больше, чем просто отец и сын, они — отличная команда дельцов, всегда ищущих новую цель.
ПУТЕШЕСТВИЯ С МОЕЙ ТЕТЕЙ 13 ноября 2010 г. — 10 апреля 2011 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Грэм Грин
Адаптировано Джайлс Хэвергал
Режиссер Стюарт Карден
Когда появляется его эксцентричная и возмутительная тетя Августа с таинственной информацией о его прошлом, Генри увлекается из безопасных цветников в серию экзотических международных приключений.
она любит меня 14 сентября — 21 ноября 2010 г. | Выполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Джо Мастерофф | Слова Шелдон Харник | Музыка Джерри Бока
Режиссер-постановщик Майкл Халберштам
Расположенный в европейской парфюмерии 1930-х годов, мы встречаем продавцов магазинов Амалию и Георга, которые оба откликнулись на рекламу «одиноких сердец» в газете и теперь живут за любовные письма, которыми обмениваются, хотя личности их поклонников остаются неизвестными!
АВТОМОБИЛЬ DESIRE 4 мая — 15 августа 2010 г. | Исполняется в суде Тюдоров 325,
Автор Теннесси Уильямс
Режиссер Дэвид Кромер
В течение одного жаркого и жаркого лета в Новом Орлеане хрупкий фасад Бланш ДюБуа медленно рушится, нанося ущерб и без того неспокойным отношениям Стеллы и Стэнли, олицетворяя суматоху и драму меняющейся нации.
СТАРЫЙ ПОСЕЛЕННИК 2 февраля — 28 марта 2010 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Джон Генри Редвуд
Режиссер Рон О.Дж. Парсон
Рассказанный с трогательной искренностью, юмором и легкостью поэзии, The Old Settler рисует пронзительную картину двух женщин, испытывающих узы сестринства и обретающих силу и прощение, которые может предложить только семья.
Ой, ТОВА! 17 ноября 2009 г. — 16 мая 2010 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Words and Music Ноэль Кауард
Режиссер Джим Корти
Вас пригласили на шикарную вечеринку! О трус! прославляет одного из величайших артистов театра — Ноэля Кауарда — зажигательной музыкой, сатирическими шутками и остроумными репликами!
РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНШТЕРН МЕРТВЫ 29 сентября — 6 декабря 2009 г. | Исполняется в Тюдоровском дворе 325,
Автор Том Стоппард
Режиссер художественный руководитель Майкл Халберштам
Гамлет , величайшая драма Шекспира, пересказывается глазами его одноклассников, Розенкранца и Гильденстерна, в комедийном шедевре Тома Стоппарда.
ЖЕНА МИНИСТРА 19 мая — 16 августа 2009 г. | Исполняется на 325 Tudor Court
Музыка Джоша Шмидта | Слова Ян Транен
Режиссер художественный руководитель Майкл Халберштам
Поэт, проповедник и его жена вступают в восхитительный конфликт, когда фантастическое предположение переворачивает обычный день с ног на голову.
СТАРАЯ СЛАВА 3 февраля — 29 марта 2009 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325
Автор Бретт Невё
Режиссер Уильям Браун
Окутанные тайной обстоятельства, окружающие шестерых обычных людей, переживающих эмоциональные потрясения на войне, раскрываются в последней работе одного из самых ярких молодых драматургов Чикаго.
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КЭРОЛ 13 — 23 декабря 2008 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Чарльз Диккенс | Адаптировано художественным руководителем Майкл Халберштам
Режиссер Джимми Макдермотт
Майкл Хальберштам мастерски воссоздает путешествие Эбенезера Скруджа в волшебный сочельник.
горничные 18 ноября 2008 г. — 22 марта 2009 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Jean Genet | Перевод Мартин Кримп
Режиссер Джимми Макдермотт
Джимми Макдермотт, один из самых ярких молодых режиссеров города, привносит в эту по сути бунтарскую пьесу свою фирменную остроту.
ПИКНИК 16 сентября — 30 ноября 2008 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325
Автор Уильям Инге
Режиссер Дэвид Кромер
Часто веселый и глубоко трогательный шедевр Инге рассказывает о надеждах и отчаянии, которые лежат между осознанием зрелости и вечным оптимизмом юности.
НИКСОН НИКСОН 19 августа — 25 октября 2008 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Рассел Лис
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
Как раз к выборам мы возвращаем наш признанный критиками, отмеченный наградами фильм Nixon Nixon.
ЛЕВ ЗИМОЙ 27 мая — 17 августа 2008 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Джеймс Голдман
Режиссер Рик Снайдер
В Англии Рождество 1183 года, и стареющий монарх Генрих II собирает вместе свою изгнанную жену Элеонору и трех своих сыновей, чтобы спланировать свою преемственность.
ЛЯГУШНЫЙ ПРИНЦ 23 февраля — 30 марта 2008 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Дэвид Мэмет
Режиссер Джимми Макдермотт
Высокомерный принц, обреченное королевство, проклятие и поцелуй — все это играет важную роль в этой истории, которая задает вопрос: могут ли люди по-настоящему измениться?
КАК ВАМ НРАВИТСЯ 5 февраля — 20 апреля 2008 г. | Исполняется в Тюдоровском дворе 325,
По сценарию Уильяма Шекспира
Режиссер Уильям Браун
Шекспир воплощает в жизнь одни из самых романтических и очаровательных сцен, которые когда-либо были описаны в этой самой совершенной из комедий.
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КЭРОЛ 19 — 23 декабря 2007 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Чарльз Диккенс | Адаптировано художественным руководителем Майклом Халберштамом
Режиссер Джимми Макдермотт
Элегантное исполнение чудесной праздничной классики.
ПОВОРОТ ВИНТА 13 ноября 2007 г. — 30 марта 2008 г. | Выполнено на 664 Vernon Avenue
Адаптировано Джеффри Хэтчер | Из рассказа Генри Джеймса
Режиссер Джессика Тебус
Отчасти история о привидениях и отчасти психологический триллер, этот классический рассказ повествует о ничего не подозревающей гувернантке, нанятой богатым отшельником для ухода за его осиротевшей племянницей и племянником — двумя, казалось бы, невинными детьми, которые вскоре открывают ужасающие секреты.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 1 ноября — 2 декабря 2007 г. | Спектакль в театрах 59E59, Нью-Йорк
Автор Федор Достоевский | Адаптировано Мэрилин Кэмпбелл и Курт Коламбус
Режиссер-постановщик Майкл Халберштам
Блестящий молодой студент, необычный детектив и молодая женщина, вынужденная заниматься проституцией, становятся жертвами жестокого убийства.Три актера воплощают в жизнь один из величайших психологических романов мира в этой захватывающей, отмеченной наградами 90-минутной адаптации.
СПОР САВАННЫ 18 сентября — 25 ноября 2007 г. | Исполняется в Тюдоровском дворе 325,
Автор Эван Смит
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
Две пожилые сестры забывают о южном очаровании, когда стучится молодой евангелист, идущий по домам.
ОТЕЛЛО 15 мая — 15 июля 2007 г. | Исполняется в Тюдоровском дворе 325,
По сценарию Уильяма Шекспира
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
Шепот, секреты и ложь превращают домашнее блаженство в клочки безумия.
КУКОЛЬНИК ЛОДЗИ 13 марта — 15 июля 2007 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Gilles Segal | Перевод Сара О’Коннор
Режиссер Джимми Макдермотт
После побега из Освенцима Финкельбаум, некогда почитаемый кукловод, забаррикадировался на чердаке и не уверен, что война окончена.
БАХА В ЛЕЙПЦИГЕ 23 января — 1 апреля 2007 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Итамар Мозес
Режиссер Ник Боулинг
Безумное и остроумное исследование музыки, амбиций и искусства.
ДРУГАЯ ЧАСТЬ ЛЕСА 26 сентября — 26 ноября 2006 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325
Автор Лилиан Хеллман
Режиссер Уильям Браун
Это 1880 год, и семья Хаббардов из Алабамы — предмет зависти Юга — богатых, умных, забавных, сексуальных и совершенно аморальных.
Герцогиня Мальфи 16 мая — 16 июля 2006 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Джон Вебстер | Адаптировано художественным руководителем Майклом Хальберштамом
Режиссер-постановщиком Майклом Халберштамом
Майкл Хальберштам придает этой удивительно возмутительной сказке свежий и современный оттенок, создавая захватывающий театральный праздник.
ИЗБРАННЫЙ 14 марта — 6 августа 2006 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Chaim Potok | Адаптировано Аароном Познером и Хаим Поток
Режиссер Шейд Мюррей
Адаптировано из классического романа Хаима Потока « Избранный» рассказывает о маловероятной, но прочной дружбе между двумя еврейскими подростками: одним православным, а другим — хасидом.
АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА 24 января — 26 марта 2006 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325
Автор Уильям Инге
Режиссер Рик Снайдер
В реальной, интуитивной среде истинные страсти, страдания, борьба, мечты и реальности чудесно поэтических персонажей интенсивно оживают.
НЕУДОБНЫЙ СТУЛ 27 сентября — 27 ноября 2005 г. | Исполняется в Тюдоровском дворе 325,
Автор Эван Смит
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
Знакомая природа брака занимает центральное место в этой остроумной и искрометной комедии, которая блестяще отдает дань уважения Оскару Уайльду и Чарльзу Диккенсу.
ОРУЖИЕ И ЧЕЛОВЕК 17 мая — 24 июля 2005 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325
Автор Джордж Бернард Шоу
Режиссер Уильям Браун
Игра Arms and the Man с восхитительным составом персонажей — это необыкновенная история любви, наполненная остроумием и мудростью, переменами и поворотами, моментами страсти и романтическим финалом.
ТЕМА БЫЛИ РОЗЫ 1 марта — 10 июля 2005 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Фрэнк Гилрой
Режиссер Шейд Мюррей
Эта пьеса, получившая Пулитцеровскую премию, предлагает вневременную историю о невысказанных страхах, которые сопровождают взросление ребенка и отпускание родителей, заставляя их столкнуться с реальностью своей собственной ситуации.
В ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 25 января — 3 апреля 2005 г. | Исполняется в Тюдоровском суде 325
Автор Ник Уитби
Режиссер Кейт Бакли
Тонкость, проницательность и ясность новой пьесы Ника Уитби убедительно демонстрируют хрупкость плоти и, в конечном счете, стойкость человеческого духа.
ЧАЙКА 28 сентября — 5 декабря 2004 г. | Исполняется на Тюдоровском суде 325,
Автор Антон Чехов | Перевод Курт Коламбус
Режиссер-постановщик Майкл Халберштам
Захватывающий силу искусства, романтики и семьи, остроумный и волнующий душу шедевр Чехова — это карта человеческого сердца.
ДИЛЕММА ДОКТОРА, 11 мая — 18 июля 2004 г. | Исполняется в Тюдоровском дворе 325,
Автор Джордж Бернард Шоу
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
Художественный руководитель Майкл Хальберштам возвращается в Шоу с этой злобной сатирой на профессию врача.
БЕНЕФАКТОРЫ 2 марта — 11 июля 2004 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Майкл Фрейн
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
Написано автором Noises Off и Copenhagen , Benefactors исследует взлет и падение дружбы между двумя парами.
МОЙ СОБСТВЕННЫЙ незнакомец 20 января — 28 марта 2004 г. | Выполняется в Тюдоровском суде 325,
Автор Энн Секстон | Адаптировано Мэрилин Кэмпбелл и Линда Лаундра
Режиссер Кейт Бакли
Это удивительное и глубоко трогательное биографическое собрание поэтических переживаний поможет вам погрузиться в мир до боли знакомых битв.
НАШ ГОРОД 30 сентября — 14 декабря 2003 г. | Выполняется в Тюдоровском суде 325
Автор Торнтон Уайлдер
Режиссер Уильям Браун
Пьеса, которая упивается элегантностью своей собственной простоты, этот театральный шедевр рисует неформальный, интимный и убедительный портрет повседневной жизни в Гроверс-Корнерс, штат Нью-Гэмпшир.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 6 мая — 27 июля 2003 г. | Исполняется на проспекте Вернона, 664,
Автор Федор Достоевский | Адаптировано Мэрилин Кэмпбелл и Курт Коламбус
Режиссер-постановщик Майкл Халберштам
Блестящий молодой студент, необычный детектив и молодая женщина, вынужденная заниматься проституцией, становятся жертвами жестокого убийства.Три актера воплощают в жизнь один из величайших психологических романов мира в этой захватывающей, отмеченной наградами 90-минутной адаптации.
НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 21 января — 20 апреля 2003 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Том Стоппард
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
Изысканная романтическая комедия, действие которой происходит на борту океанского лайнера в золотых тридцатых годах.
РАКЕТА НА ЛУНУ 17 сентября — 15 декабря 2002 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Клиффорд Одетс
Режиссер Уильям Браун
Жгучая история тоски и желаний.
НЕЗАВИСИМОСТЬ 23 апреля — 14 июля 2002 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Джордж Бернард Шоу
Режиссер Уильям Браун
Надвигающийся брак между могущественными семьями Тарелтонов и Саммерхей находится под угрозой из-за прибытия трех незваных гостей: кавалерского пилота, его экзотической пассажирки и вспыльчивого юноши, хранящего семейную тайну Тарелтонов.
ЦЕНА 8 января — 31 марта 2002 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Артур Миллер
Режиссер Дэвид Кромер
Этот шедевр Артура Миллера 1968 года исследует тяжелое положение двух братьев, которые борются после смерти своего отца.
ФЕНИКС СЛИШКОМ ЧАСТО 18 сентября — 9 декабря 2001 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Кристофер Фрай
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
Действие комедии-драмы происходит в Древней Греции. Убитая горем девушка (и ее мудрый слуга) решили умереть от голода в могиле своего недавно умершего мужа. Когда ничего не подозревающий солдат натыкается на двоих, несущих еду, вино и слова любви, начинается возбуждение…
ОТЕЦ 8 мая — 1 июля 2001 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Август Стриндберг, Перевод Edith & Warner Oland
Режиссер-постановщик Майкл Халберстам
Этот напряженный психологический триллер бросает вызов вековой битве полов.
БАТЛИ 13 февраля — 1 апреля 2001 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Саймон Грей
Режиссер Кейт Бакли
Ужасно забавная драма об упорстве профессора университета-алкоголика в разгар кризиса среднего возраста.
СТЕНД 21 ноября 2000 г. — 7 января 2001 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Остин Пендлтон
Режиссер Дэвид Кромер
Конфликт между отцом и сыном, актерами Юниусом и Эдвином Бутом, один пытается жить в тени другого.
ЗЛОЙ ЗЛОЙ 29 августа — 15 октября 2000 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Agustin Moreto | Перевод Дакин Мэтьюз
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
Восхитительная комедия с музыкой и танцами, написанная в 1634 году и представленная здесь в виде мировой премьеры перевода.
LOOT 27 апреля — 11 июня 2000 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Джо Ортон
Режиссер Гэри Гриффин
МакЛиви только что потерял жену. Он хороший католик и надеется на красивые похороны. Но с сыном-правонарушителем, медсестрой-убийцей, психотическим полицейским и ограблением банка день готов к чему угодно, только не к мирному.
НИКСОН НИКСОН 17 февраля — 2 апреля 2000 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Рассел Лис
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
В ночь перед уходом в отставку Никсон вызвал Киссинджера в гостиную Линкольна.То, что произошло, является предметом множества предположений.
ПАВШИЕ АНГЕЛЫ 2 декабря 1999 г. — 16 января 2000 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Ноэль Кауард
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
Джейн и Джулии наскучили их браки. Когда старый любовник объявляет о своем намерении навестить их, они получают как раз тот предлог, который они искали, чтобы немного оживить обстановку.
ИНЦИДЕНТ В ВИЧИ 16 сентября — 31 октября 1999 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Артур Миллер
Режиссер Уильям Браун
Немцы оккупируют Францию, и по неизвестным им причинам группа мужчин была переведена с улицы в камеру предварительного заключения.Постепенно они понимают, почему.
EASTVILLE 29 апреля — 13 июня 1999 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Эллен М. Льюис
Режиссер Лиза Дункан
Захватывающая тайна, действие которой происходит вдоль подземной железной дороги: сбежавший раб, два таинственных незнакомца и захватывающая встреча воли.
УВАЖАЕМЫЙ МАСТЕР: ДИАЛОГ В ПИСЬМАХ 18 февраля — 4 апреля 1999 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Дороти Брайант
Режиссер Кейт Бакли
В пьесе Брайанта, основанной на письмах между Жоржем Сандом и Гюставом Флобером, представлены яркие портреты этих писателей XIX века.
КАНДИДА 4 декабря 1998 г. — 18 января 1999 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Джордж Бернард Шоу
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
Одна из величайших пьес в мире. В ней рассказывается о душевной любовной болезни 18-летнего Марчбэнкса к Кандиде, жене пастора.
ОБРАТИТЕСЬ В ГНЕВ 17 сентября — 1 ноября 1998 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Джон Осборн
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
Эта мощная драма на своей премьере изменила облик современного театра.
ПИНТЕРАКТЫ: ГЛУБОКИЙ ОФИЦИАНТ И ЛЮБИТЕЛЬ 23 апреля — 7 июня 1998 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Гарольд Пинтер
Режиссер Роберт Скогин
Два действия одного из самых выдающихся драматургов Гарольда Пинтера. Двое мужчин ждут прибытия третьего в ожидании завершения таинственной миссии, а муж и жена вовлечены в любовную игру.
СТЕКЛЯННЫЙ МЕНЕДЖЕР 12 февраля — 29 марта 1998 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Теннесси Уильямс
Режиссер Уильям Браун
В этой вневременной классике вы встретитесь лицом к лицу с поэтическим Томом, ищущим побега со своей работы на складе и ограничивающим семейную жизнь, и его замечательной матерью Амандой, потерянной в другом времени и в другом месте.
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 4 декабря 1997 г. — 18 января 1998 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Ноэль Кауард
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
Впервые выпущенный в 1930 году, мы познакомим вас с Амандой и Элиот, которые недавно развелись, заключили второй брак, но безнадежно влюблены друг в друга. Случайная встреча во время медового месяца отправляет их в круговорот остроумных ссор и страстной любви.
NIEDECKER 18 сентября — 2 ноября 1997 г. | Исполняется на 664 Вернон-авеню,
Автор Кристин Тэтчер | Поэзия Лорин Нидекер
Режиссер Кейт Бакли
Замечательный портрет висконсинской поэтессы Лорин Нидекер.Поэт Сид Корман описал ее как «… застенчивую и нежную. Яркую и правдивую. Неспособную к жестокости … подлинный голос и дух».
THE BEATS, 24 апреля — 1 июня 1997 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Адаптировано Мэрилин Кэмпбелл
Режиссер Кейт Бакли
Изучение ранних лет группы поэтов, которые своими поэзией и прозой произвели небольшую революцию в американской литературе.
РИЧАРД II 30 января — 9 марта 1997 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Уильям Шекспир
Режиссер Брендан Фокс
История короля-поэта, чья неспособность править приводит к падению его царства, и узурпатора, который свергает его и навлекает на себя гнев Бога.
В СЕРДЦЕ ЗИМЫ 96 29 ноября — 24 декабря 1996 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Адаптировано художественным руководителем Майклом Хальберштамом
Режиссер художественный руководитель Майкл Хальберштам
Праздничное чтение произведений Трумэна Капоте, Чарльза Диккенса, О. Генри, Х. Л. Менкена, Джона Мозеса и Грейс Пейли.
MEMOIR 26 сентября — 17 ноября 1996 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Джон Мюррелл
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
Легендарная французская актриса Сара Бернар мчится против заходящего солнца, чтобы завершить свои мемуары с помощью личного секретаря летом 1922 года.
ДАМОН, КОЛЬЦО И Ф. СКОТТ 10 мая — 16 июня 1996 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор J.R. Sullivan
Режиссер J.R. Sullivan
Ринг Ларднер, Ф. Скотт Фицджеральд и Дэймон Раньон встречаются в поезде после скандала с Black Sox и исследуют царство потерянных, найденных и, возможно, вновь обретенных американских мечтаний.
ПЕРЕМЕННАЯ СТРАСТЬ 8 марта — 14 апреля 1996 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Адаптировано Эллиот Хейс и Николас Пеннелл
Режиссер Николас Рудалл
Маленький профессор университета Среднего Запада, который, находясь в своем кабинете, готовя небольшую антологию любовной поэзии для своего класса, обнаруживает, что исследует свои мысли через слова других писателей, и вынужден гораздо внимательнее присматриваться к любви, чем он сам. изначально задумано.
БЛЕЙК 1 января — 25 февраля 1996 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Эллиот Хейс
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
Монолог, основанный на жизни английского поэта и гравера, сотканный из стихов из «Песни невинности и опыта» Блейка.
В СЕРДЦЕ ЗИМЫ 95 1 — 23 декабря 1995 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Джером Килти
Режиссер Кейт Бакли
Праздничное чтение произведений Дэвида Мейера, Дилана Томаса, Джеймса Финна Гарнера, Марджори Франко, Коррины Маурио, Майкла Гарсиа, Ганса Христиана Андерсона и Лео Лионни.
УВАЖАЕМЫЙ ЛЖЕЦ 15 сентября — 22 октября 1995 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Джером Килти
Режиссер Кейт Бакли
Мастерский сборник шуток с Шоу и миссис Кэмпбелл в сценах как конфронтации, так и дистанцирования.
Брак и медведи 21 апреля — 28 мая 1995 г. | Исполняется на проспекте Вернона, 664,
Автор Антон Чехов | Перевод Майкл Фрейн
Режиссер-постановщик Майкл Халберштам
Две блестящие одноактные пьесы Чехова, воплощенные в жизнь одним из ведущих драматургов мира.
ПОМНИТЕ ОСКАР 20 января — 25 февраля 1995 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Максим Мазумдар
Режиссер Дэвид Кромер
Лорд Альфред Дуглас размышляет о своей любви и предательстве с Оскаром Уайльдом.
В СЕРДЦЕ ЗИМЫ 94 2 — 24 декабря 1994 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Адаптировано Мэрилин Кэмпбелл и художественным руководителем Майклом Халберштэмом
Режиссер художественный руководитель Майкл Халберстам
Праздничное чтение произведений Дилана Томаса, Кэрол Адорджан, Энн Фриман, Энджи Дэвидсон Басс, Марка Твена, Джорджа Бернарда Шоу, О.Генри, Грейс Пейли, W.H. Оден и Вашингтон Ирвинг.
ДВА ШОУ: ДЕРЕВНЯ ВУИН И ЧЕЛОВЕК СУДЬБЫ 23 сентября — 31 октября 1994 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Джордж Бернард Шоу
Режиссер Ричард Блок
Две из самых остроумных одноактных пьес Шоу в паре для идеального вечера.
МОЙ СОБСТВЕННЫЙ незнакомец 17 апреля — 12 июня 1994 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue,
Автор Anne Sexton | Адаптировано Мэрилин Кэмпбелл и Линда Лаундра
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
Это удивительное и глубоко трогательное биографическое собрание поэтических переживаний поможет вам погрузиться в мир до боли знакомых битв.
НЕ О ГЕРОЯХ 19 января — 20 февраля 1994 г. | Исполняется в Театре Apple Tree.
Автор Стивен Макдональд
Режиссер-постановщик Майкл Халберстам
История отношений между поэтами Уилфредом Оуэном и Зигфридом Сассоном, рассказанная в серии воспоминаний, рассказанных Сассоном.
ДНЕВНИК МАДМАНА 1 января — 28 февраля 1994 г. | Исполняется в кафе «Вольтер»
Автор Николай Гоголь | Адаптировано Эллиот Хейс
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
«Дневник сумасшедшего» рассказывает о борьбе одного мужчины за то, чтобы его заметила женщина, которую он любил.В его дневнике записано его постепенное погружение в безумие, где он, наконец, достигает величия, которое ускользало от него в реальной жизни.
В СЕРДЦЕ ЗИМЫ 93 26 ноября — 24 декабря 1993 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Адаптировано Мэрилин Кэмпбелл и художественным руководителем Майклом Халберштэмом
Режиссер художественный руководитель Майкл Халберстам
Праздничное чтение произведений Дилана Томаса, Мейв Бинчи, Джона Кендрика Бэнкса, Мосса Харта, Уильяма Шекспира, Джорджа Бернарда Шоу, Джеймса Кирквуда, Хью Джонсона, Хаима Потока, Грейс Пейли и О.Генри.
УВАЖАЕМЫЙ МАСТЕР: ДИАЛОГ В ПИСЬМАХ 1 октября — 1 ноября 1993 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Автор Дороти Брайант
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
В пьесе Брайанта, основанной на письмах между Жоржем Сандом и Гюставом Флобером, представлены яркие портреты этих писателей XIX века.
ИГРА СЛОВ 21 июля — 14 августа 1993 г. | Исполняется на 664 Vernon Avenue
Адаптировано Мэрилин Кэмпбелл , художественный руководитель Майкл Халберштам и Джон Мозес
Режиссер-постановщик Майкл Хальберштам
Вечер тщательно продуманной речи на сцене, состоящий из юмористических произведений Ринга Ларднера, Дороти Паркер, Тодда Макьюэна, Стивена Ликока и Джона Чивера.
ЛЮБОВЬ И БЕЗУМИЕ 20 марта — 24 апреля 1993 г. | Исполняется на проспекте Вернона, 664,
Автор Антон Чехов и Николай Гоголь | Адаптировано художественным руководителем Майклом Хальберштамом и Эллиот Хейс
Режиссер художественный руководитель Майкл Хальберштам
Писательский театр — премьера спектакля « Любовь и безумие» , состоящего из трех рассказов Чехова («Он и она», «Кривое зеркало» и «Уловка»), поставленных рядом с «Дневником сумасшедшего» Гоголя.»
Медный всадник | Encyclopedia.com
АЛЕКСАНДР ПУШКИН
1841
АВТОРСКАЯ БИОГРАФИЯ
ТЕКСТ ПОЭМЫ
ОБЗОР ПОЭМЫ
ТЕМАТИКИ
ХИСТОРЛ
ТЕМЫ
HISTORLE 9013 Всадник »- повествовательная поэма русского поэта Александра Пушкина. Первоначально написанная в 1833 году под названием« Медный всадник », она не была опубликована до 1841 года, после смерти Пушкина, и была напечатана как отдельное произведение.Задержка была вызвана неодобрением царя Николая I, который возражал против его тематики и изображения своего царственного предка, царя Петра I. DM Thomas (Александр Пушкин, Медный всадник и другие стихи , 1982), который по состоянию на 2007 год не издается, но есть подержанные копии. Стихотворение также доступно в английском переводе Роберта Пауэл-Джонса (Александр Пушкин, Медный всадник , Stone Trough Books, 1999).
Фоновая тема стихотворения — строительство российского города Санкт-Петербурга по приказу царя Петра I (Петр I, 1672-1725) на болотистой местности на берегу Невы. Город был построен принудительным трудом, и, как говорят, тысячи крестьян-строителей погибли в тяжелых условиях. Эта кровавая история города раскрывает темы стихотворения, которые включают конфликт между интересами государства или исторической судьбы и интересами простого человека, конфликт, который является прообразом борьбы, которая будет бушевать в России в следующем столетии.Главное событие поэмы — наводнение, случившееся в Санкт-Петербурге в ноябре 1824 года.
В поэме три главных героя: царь Петр I, который предстает сначала как историческое лицо, а затем как бронзовая конная статуя царя Петра. Я, стоящий в городе (который известен с тех пор, как стихотворение стало популярным как Медный всадник), и скромный писарь Евгений. Он широко считается шедевром и помог укрепить репутацию Пушкина как величайшего и самого влиятельного писателя России начала девятнадцатого века.
Русский поэт, драматург, прозаик и рассказчик Александр Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве, Россия, в семье Сергея Львовича, армейского офицера, и Надежды Осиповны Пушкиной. (В некоторых источниках даты, указанные здесь, предшествуют датам, указанным здесь, на несколько дней, например, дата рождения Пушкина — 26 мая. Это связано с тем, что до 1918 года Россия следовала юлианскому календарю, который на несколько дней отставал от григорианского календаря, используемого в Европе. Юлианский календарь календарные даты часто называют старым стилем, а даты григорианского календаря — новым стилем.Даты указаны в новом стиле.)
Семья Пушкиных происходила из аристократии, но уже не имела того престижа, которым пользовалась. Пушкин гордился своим прадедом по материнской линии, Абрамом Петровичем Ганнибалом (иногда его называют Ганнибалом), черным абиссинским князем, который стал фаворитом царя Петра I и известным генералом и инженером.
С 1811 по 1817 год Пушкин учился в лицее в Царском Селе под Петербургом. После окончания учебы он получил синекуру в качестве государственного служащего в Министерстве иностранных дел в Санкт-Петербурге.Петербург.
Пушкин закончил свое первое крупное стихотворение «Руслан и Людмила» в 1820 году. Он отличался тем, что писал на русском языке в то время, когда большинство русских литераторов писали на французском и английском языках. В царской России члены королевской семьи и аристократия (включая самого Пушкина) обычно говорили по-французски, а русский язык считался языком крестьян. Таким образом, Пушкин приобрел статус основоположника русской литературы. Он также сыграл важную роль в уходе русской литературы от сентиментальности произведений восемнадцатого века к реалистическому и психологическому подходу, который будет взят более поздними писателями, такими как Лев Толстой и Федор Достоевский.
В 1820 году либеральные политические взгляды Пушкина и его язвительные сатиры о царе Александре I и его чиновниках привели к тому, что его допросили и сослали на юг России. Также он побывал на Кавказе и в Крыму. Это оказалось продуктивным временем для Пушкина. В течение трех лет в Кишиневе (современная Молдова) он писал стихотворные повествования в стиле английского поэта Джорджа Гордона, лорда Байрона. В их числе «Кавказский пленник» (1822 г.). Он также начал свой стихотворный роман Евгений Онегин , который был написан в период 1823-1831 годов, издавался серийно, начиная с 1825 года, а полностью опубликован в 1833 году.
В 1824 году чиновники перехватили письмо, в котором Пушкин поддерживал атеизм. Его отправили в более глубокую ссылку, в имение его матери Михайловское на севере России, где он провел два года под наблюдением. В этот период он написал повествовательную поэму «Цыгане» (1827) и драму Борис Годунов (завершена в 1825 году, хотя цензоры не допускали ее публикации до 1831 года).
В 1826 году Пушкин обратился к царю Николаю с просьбой освободить его из ссылки. Царь согласился и сказал Пушкину, что лично будет цензором его произведений.Пушкин сначала полагал, что сможет свободно публиковаться и путешествовать. Однако вскоре он обнаружил, что без предварительного разрешения он не может сделать ни то, ни другое, и его неоднократно допрашивали в полиции по поводу его стихов.
В 1830 году Пушкин был обручен с светской красавицей Натальей Гончаровой. Он поехал в поместье своего отца в Болдино, чтобы организовать свадебный подарок отцом половины поместья, и оказался там на три месяца в карантине из-за эпидемии холеры.В этот период Пушкин написал драмы, в том числе Моцарта и Сальери (впервые поставлены в 1832 году) и Каменный гость (впервые выпущены в 1847 году). Он завершил «Медного всадника» осенью 1833 года во время очередного пребывания в Болдино. Стихотворение впервые было опубликовано индивидуально в 1841 году под названием Медный всадник .
Пушкин женился на Наталье в Москве в 1831 году. Супруги ненадолго поселились в Царском Селе, а затем в Санкт-Петербурге, где прожили до самой смерти Пушкина.Пушкин намеревался жить просто, но близость царской семьи и дорогие вкусы Натальи привели к тому, что он попал в зависимость от благосклонности царя Николая. Брак, в котором родилось четверо детей, оказался несчастливым. Интересы Натальи заключались в том, чтобы вести активную светскую жизнь в придворных кругах, и ее флирт вызывал разочарование у Пушкина. В 1834 году у Натальи случился выкидыш после танцев на балу. Возмущенное письмо Пушкина к выздоравливающей в деревне жене было перехвачено царской полицией.Разъяренный Пушкин подал прошение об отставке с государственной службы, но вскоре отказался от него, опасаясь недовольства царя.
Пушкин был обременен управлением имением отца, которое он принял в 1834 году, и долгами брата, которые он обязался выплатить. Он просил царя позволить ему удалиться в деревню или дать ему большую ссуду; первая просьба была отклонена, но вторая удовлетворила. В 1836 году царь согласился разрешить Пушкину издавать журнал The Contemporary , в котором Пушкин оказался в еще больших долгах и проблемах с цензорами.
В 1834 году Наталья познакомилась с бароном Жоржем Дантес-Геккереном, французским эмигрантом, работавшим на русской службе. Ходили слухи о романе. Осенью 1836 года Пушкин получил анонимное письмо, в котором его обвиняли в том, что он рогоносец. Он вызвал Дантеса-Геккерена на дуэль, которая состоялась 8 февраля 1837 года. Пушкин скончался от пулевых ранений через два дня в своем доме в Санкт-Петербурге. Д’Антез-Геккерен был легко ранен, и придворное общество сочувствовало ему, хотя обычные люди считали его иначе.Они тысячами стекались к постели умирающего Пушкина. Власти, опасаясь публичного восстания, перенесли его похороны из Исаакиевского собора в небольшую уединенную церковь и тайно отправили его тело для погребения на ночь. Похоронен рядом с матерью в монастыре Святые Горы близ Михайловского.
Этот текст удален из-за ограничений автора.
Этот текст удален из-за ограничений автора.
Этот текст удален из-за ограничений автора.
Этот текст удален из-за ограничений автора.
Этот текст удален из-за ограничений автора.
Введение
Это длинное повествовательное стихотворение разделено на три части: Введение и части 1 и 2. В первой строфе Введения к «Медному всаднику» (строки 1-8) изображен безымянный человек (исторический царь Петр I) стоящий на берегу Невы. Он смотрит вдаль и «полон высоких мыслей.«Как становится ясно из второй строфы, он планирует построить на этом месте великий город. Этот город — Санкт-Петербург, который царь Петр I основал в 1703 году, поэтому Дата введения установлена на неустановленную дату до этого. Пока это место представляет собой темный лес и негостеприимное болото, усеянное небольшими хижинами, населенными финнами (Санкт-Петербург расположен на восточном берегу Финского залива, а береговая линия Финляндии — на северном берегу).
Вторая строфа (строки 9-16) описывает видение этого человека.Он стремится основать город, который помешает шведским экспансионистским целям в Балтийском море (Финский залив соединяет Балтийское море с Санкт-Петербургом). Город станет «окном в Европу» царя Петра и привлечет корабли из всех стран. Видение завершается видением царя Петра радостных русских моряков, празднующих успех проекта в какой-то момент в будущем, когда будет построен город.
В третьей строфе (строки 17–31) стихотворение перемещается во времени на сто лет вперед.Мечта человека осуществилась: построен город Санкт-Петербург. Там, где когда-то финские рыбаки занимались своим промыслом, теперь выросли огромные дворцы и башни. Корабли со всего мира заходят в гавани, а берега Невы облицованы гранитом. Поэт уподобляет город «новой императрице», по сравнению с которой предыдущая столица, Москва, кажется бледной старой вдовой. Вдова носит фиолетовый цвет, потому что это был королевский цвет Византийской империи. Поэт связывает Россию с Константинополем, центром Византийской империи, разделявшей православную веру.Город можно сравнить с вдовой, преклоняющейся перед новой императрицей, потому что царь Петр I оставил ее: царь Петр I сделал Санкт-Петербург столицей России в 1712 году, переняв этот титул у Москвы.
Четвертая строфа (строки 32-62) меняется на одический тон (ода — это лирическое стихотворение, выражающее восторженные или восторженные эмоции, восхваляющие человека, место, качество или объект). Поэт обращается к Санкт-Петербургу прямо, как к любимой женщине, и впервые безымянный мужчина отождествляется с царем Петром I: «Я люблю тебя, творение Петра.Поэт описывает аспекты красоты города. Он отмечает феномен белых ночей. Санкт-Петербург находится так далеко на севере, что летом ночи остаются достаточно светлыми, и он может читать и писать без лампы. Он видит сияющий шпиль Адмиралтейства (построенный между 1806 и 1823 годами). Он перечисляет другие чувственные впечатления от города, в том числе вид девушек в санях, бегущих по замерзшей реке, их лица сияют от холода; шипение пенящихся кубков на балах; и вид военных учений на плацу города, Марсовом поле.Поэт обращается к городу как к «военному / столичному», имея в виду выстрелы из пушек в Петропавловской крепости в ознаменование рождения сына царицы, победы русских над врагом или таяния Невы. весна.
Пятая строфа (строки 62-68) имеет оттенок молитвы. Поэт предлагает городу выставить напоказ свою красоту и встать «непоколебимо, как Россия», чтобы даже «побежденные стихии», море и река, захваченные гранитными берегами города, могли примириться с ним.Здесь поэт ставит под сомнение чувство непобедимости творения царя Петра, заложенное в предыдущих разделах.
В шестой строфе (строки 69-71) поэт объявляет, что он расскажет печальную историю ужасного времени.
Часть 1
Часть 1 представляет собой театрализованное повествование поэта об историческом событии 19 ноября (по новому стилю) 1824 года, когда в Санкт-Петербурге произошло катастрофическое наводнение. Здесь город носит альтернативное название — Петроград, что переводится как город Петра.В первой строфе (строки 1-17) сцена открывается на Неве, метающейся в темноте «Как больной в беспокойной постели». Фокус смещается внутрь дома, в окно которого бьет дождь. Это дом молодого человека Евгения, который только что вернулся домой после посещения друзей. Он живет в Коломне, рабочем районе Санкт-Петербурга, и у него непримечательная работа. Поэт предполагает, что семья Евгения, возможно, имела важное значение в древние времена, но потеряла влияние: его фамилия могла фигурировать в традиционных легендах или в книге « История государства Российского » (1818) русского писателя Николая Карамзина, завершившей ее летопись. в 1613 г.
Вторая строфа (строки 18-33) рассказывает о том, как Евгений ложится спать, но лежит без сна, беспокоясь о своей бедности. Он думает, что ему придется заработать независимость упорным трудом, хотя для некоторых жизнь легка. Он проработал клерком два года. Его беспокоит ухудшение погоды. Река поднимается, и он боится, что будет отрезан от Параши, женщины, которую любит и на которой надеется жениться.
Третья строфа (строки 34-43) сосредотачивается на мыслях Евгения, когда он планирует свое будущее с Парашей.Его желания скромны: простой дом, в котором он и Параша будут наслаждаться спокойной жизнью. У него будут работа, дети, а со временем — внуки. Четвертая и пятая строфы (строки 44-49) описывают, как Евгений засыпает, когда завывает ветер и бьет дождь вокруг него.
Шестая строфа (строки 50-67) описывает, как ветер, дующий с Финского залива, борется с рекой Невой, которая течет к заливу. К утру шторм повернул реку вспять и затопил острова, на которых стоит город.Река уносит все на своем пути, а каналы города достигают высоты перил. Город носит греческое название Петрополис (город Петра). Поскольку он наполовину погружен в воду, его сравнивают с Тритоном, который в греческой мифологии является посланником океана и сыном морского бога Посейдона.
Седьмая строфа (строки 68-74) сравнивает наводнение с осадой, а волны — с хитрыми ворами, которые лезут в здания через окна. Снаряжение уличных торговцев, обломки хижин и даже гробы, выкопанные на кладбище, плывут по улицам.
В восьмой строфе (строки 75-77) поэт переносит свое внимание на жителей города. Они смотрят на потоп, который изображается как Божий суд, и ждут своего конца. У них нет ни еды, ни крова.
В девятой строфе (строки 78-88) поэт обращает внимание на царя Александра I. Царский дворец (известный как Эрмитаж) избежал наводнения, но превратился в изолированный остров. Царь с грустью размышляет о том, что «цари не могут овладеть / божественной стихией», и затем отправляет своих генералов на опасную миссию по улицам, чтобы спасти людей, тонущих в своих домах.Это генералы — герои дела, а царь пассивно философствует. Тот факт, что царь изображен стоящим на балконе, а также статус его дворца на острове, указывают на его отстранение от простых людей.
В десятой строфе (строки 89-109) рассказывается, как Евгений спасается от наводнения. Он сидит на вершине огромной скульптуры каменного льва, одного из пары львов-хранителей, которые обрамляют лестницу особняка Лобановых-Ростовских на Сенатской площади, где находится статуя Петра Великого.Здесь поэт называет Сенатскую площадь «площадью Петра» в честь ее создателя и памятника царю Петру I. Сенатская площадь была переименована в площадь декабристов в 1925 году, после восстания декабристов, произошедшего на ней в декабре 1825 года.
Евгений боится не за сам, но для Параши. Он напрягается, чтобы увидеть полуразрушенный дом, где она живет со своей овдовевшей матерью, и отмечает, что это близко к волнам. Он вспоминает свою «мечту» жениться на Параше, но затем задает горький вопрос, является ли сама жизнь «ничем иным, как пустой мечтой, небесной шуткой?»
Одиннадцатая строфа (строки 110-15) описывает ужас Евгения при осознании того, что он не может спуститься со льва, так как вокруг него вода.За разлившейся рекой, обращенной к нему спиной, стоит конная статуя Петра Великого с протянутой рукой: Медный всадник.
Часть 2
Часть 2 знаменует собой переход вперед во времени к тому моменту, когда паводок отступил, и воды начали падать. Первая строфа (строки 1-10) сравнивает реку с жестокими грабителями, которые грабят деревню и бегут, сбрасывая добычу на своем пути.
Вторая строфа (строки 11-21) описывает, как по мере того, как вода медленно опускается, дорога становится видимой.Евгений бросается к берегу реки и нанимает лодочника, чтобы переплыть его через реку.
В третьей строфе (строки 22-47) рассказывается, как, борясь с течением, лодочник наконец доставляет Евгения на противоположный берег. Евгений бежит по улице, где жила Параша, но видит только разруху. Дома рухнули, а вокруг валяются трупы, как на поле боя. Подойдя к месту, где стоял дом Параши, Евгений видит, что его снесло. Он ходит вокруг, разговаривает сам с собой, затем ударяет себя по лбу (жест, который, возможно, означает горькое осознание) и смеется.Это первый признак того, что Евгений теряет рассудок.
Четвертая и пятая строфы (строки 48-60) изображают ночь, обрушившуюся на напуганных людей, а рассвет следующего дня — возвращение выживших к нормальной жизни. Пурпурный цвет описывает рассветное небо, но также напоминает одетую в пурпур вдову из Введения. В обоих случаях фиолетовый цвет обозначает имперскую власть: в этом случае ссылка означает возвращение к имперскому порядку после разрушений, нанесенных природой.Улицы очищены от мусора. Люди пребывают в состоянии холодного безразличия; государственные чиновники выходят на работу; и купец, чей подвал был ограблен наводнением, цинично надеется возместить свои потери за счет своего соседа.
В шестой строфе (строки 61-63) отмечается, что граф Хвостов, поэт и современник Пушкина, уже начал сочинять стихи о катастрофе. Поэт начинает седьмую строфу (строки 63-82) с жалости к травмированному Евгению и далее описывает его душевное состояние как «замученное» «Каким-то сном.В голове у Евгения до сих пор слышны звуки ветра и набегающие волны из ночи наводнения. Он бродит по улицам как бродяга, питаясь объедками, которые люди передают ему через окна. Хозяин дома, в котором он жил, сдает свою комнату бедному поэту. Кажется, он живет полужизнью, ни в мире живых, ни в мире мертвых.
Седьмая строфа (строки 83-101) перескакивает во времени на год после потопа, в котором действие должно происходить непосредственно перед восстанием декабристов 1825 года.Поэт рассказывает, как однажды ночью Евгений спит на берегу Невы, когда он просыпается, вздрогнув. В страхе он идет на Сенатскую площадь, где до сих пор стоят львы и Медный всадник, статуя царя Петра I.
В восьмой строфе (строки 102–116) Евгений вспоминает свои испытания во время наводнения. Он смотрит на статую царя Петра I и размышляет о нем, по «роковой воле» которого город был «основан на море». Он задается вопросом, куда лошадь будет скакать, а потом ставит копыта.Он обращается к царю Петру I как к «могущественному повелителю судьбы» и отмечает, что, поднимая лошадь за железный бордюр, он своей неукротимой волей «поднял Россию» из моря.
Девятая строфа (строки 117–38) повествует о том, как разъяренный Евгений прижимается лицом к перилам, окружающим статую царя Петра I, и угрожает мертвому царю, прежде чем убежать. Когда он бежит по площади, он чувствует, что лицо статуи вспыхивает от ярости и что статуя скачет за ним.Евгений бежит всю ночь, но куда бы он ни пошел, он чувствует, что за ним идет Медный всадник.
Десятая строфа (строки 139-44) перемещается вперед во времени. Поэт рассказывает, как с тех пор, когда Евгений заходил на эту площадь, он торопливо прижимал руку к сердцу, чтобы облегчить мучения, и снимал шапку в знак уважения к статуе, не глядя на нее.
Одиннадцатая и последняя строфа (строки 145-56) снова перемещается вперед во времени. Поэт описывает небольшой остров, который можно увидеть с берегов Невы, где иногда останавливается рыбак, чтобы приготовить ужин.Остров настолько бесплоден, что на нем не растет ни одна травинка. Наводнение привело туда «ветхий домик»: Параши. Поэт отмечает, что минувшей весной обломки унесла баржа. У порога дома нашли тело Евгения. Он был похоронен на этом месте.
Конфликт между потребностями государства и желаниями личности
Основная тема «Медного всадника» — конфликт между потребностями и желаниями имперского государства, воплощенными царем Петром I и символизируемыми его статуей. , и желания личности в воплощении Евгения.
ТЕМЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
- Рассмотрим изображения царя Петра I и Евгения Пушкиным в «Медном всаднике». Напишите эссе, показывающее, как поэт вызывает или отчуждает симпатию читателя к каждому персонажу. В чем состоят ваши собственные симпатии? Почему?
- Изучите литературные движения неоклассицизма, романтизма и реализма и составьте список основных характеристик, отображаемых произведениями, принадлежащими каждому движению. Проанализируйте характеристики каждого движения в том виде, в каком они представлены в «Медном всаднике.«Подходит ли произведение к какому-либо одному движению, или оно содержит элементы из двух или всех трех движений? Сделайте презентацию в классе о своих выводах.
- Изучите жизнь и историю трех автократических правителей России в любое время в истории страны (царские или советские периоды). Самодержавие — это правительство, при котором один человек (в случае России, царь или советский лидер страны) имеет неограниченную власть над другими. Напишите эссе, сравнивая и противопоставляя их методы правления и жизни разных социальных классов под их правлением.Используйте свои выводы, чтобы провести контрасты или сравнения с современным правительством в вашей собственной стране.
- Изучите историю Санкт-Петербурга, Россия, от событий, приведших к его основанию в 1703 году, до наших дней. Напишите эссе (используя иллюстрации, если хотите) с подробным описанием некоторых событий и влияний, которые сформировали город.
- Изучите наводнение 1824 года в Санкт-Петербурге, Россия, и наводнение 2005 года в Новом Орлеане, вызванное ураганом Катрина. Напишите отчет, в котором сравниваются и противопоставляются причины и следствия этих двух событий.Возможные области исследования могут включать социальные, политические, экономические, экологические аспекты и аспекты общественного здравоохранения. Включите в свой отчет любые меры, которые в настоящее время принимаются в обоих городах, чтобы попытаться предотвратить будущие наводнения, а также любые меры, которые, по вашему мнению, должны быть реализованы, но не выполняются.
Судьба Евгения символизирует жертву тысяч крестьян, призванных Петром на принудительные работы, погибших в здании города. Эта история крестьян-строителей прямо не рассказывается в «Медном всаднике.Вместо этого поэт показывает Петра, планирующего строительство будущей столицы Российской империи, а затем совершает прыжок во времени на сто лет, когда город уже построен. Это преднамеренное упущение важных событий представляет собой повествовательный прием, называемый многоточием. Однако история крестьян ярко представлена в стихотворении в символической форме, изображенной судьбой Евгения. В отличие от грандиозного видения Петра, у Евгения простые желания: брак с любимой Парашей, дом, дети и внуки.И все же он лишен исполнения этих желаний волевым актом Петра I, построившего город на подверженной наводнениям низменности. Петр хотел, чтобы город находился на этом месте, потому что он был стратегически важен как для остановки шведской экспансии в Балтийском регионе, так и для торговли и культурного обмена с Европой. По мнению Петра, Европа была более развита в коммерческом, технологическом и художественном отношении, чем Россия.
Уязвимость бедных и бессильных по сравнению с силой богатых и сильных
Пушкин ясно дает понять, что от наводнения больше всего страдают бедные жители города, такие как Евгений.В первой части «Медного всадника» он определяет смываемый мусор как подносы уличных торговцев, фрагменты хижин и «движимое имущество бледной нищеты». Дома бедняков были деревянными, что делало их особенно уязвимыми для стихийных бедствий. Дом Параши полностью снесен, и его выбросило на остров за городом. Евгений делает жалкую попытку бросить вызов высокомерному видению Петра, угрожая статуе мертвого царя. Когда статуя, кажется, оживает и преследует Евгения по улицам, Евгений пугается этого королевского упрека за его дерзость.Он сходит с ума и кончает жизнь на пороге разрушенного дома своей возлюбленной. Таким образом, символически бедные и ничтожные, вместе со своими желаниями и стремлениями, устрашаются сильными и подчиняются, прежде чем их сметают и забывают так же окончательно, как крестьяне, погибшие при строительстве города.
Поднимаясь вверх по социально-экономическому масштабу, купеческие дома среднего класса, более прочно построенные из камня, не пострадали от наводнения. Купец теряет свой товар, но есть шанс, что он может возместить свою потерю за счет соседа.На вершине социальной лестницы дома и памятники богатых и влиятельных людей, такие как скульптурные львы, величественные особняки и сам Медный всадник, остались нетронутыми после наводнения. Поэма противопоставляет стойкость абсолютной власти уязвимости простых людей и показывает, что это так же верно во время написания, как и в 1703 году, когда Петр основал город.
Конфликт между природой и цивилизацией
Вспомогательная тема в стихотворении — конфликт между природой и цивилизацией, представленный стихией воды реки и дождя и камнем города.Эта тема впервые представлена во Введении, когда царь Петр I обращается к природе как к партнеру в своей грандиозной схеме: «По природе нам суждено / Прорезать окно в Европу». Это изображение берегов реки, облицованных гранитом по приказу царя Петра I. Царь Петр I наложил свою волю на природу, но природа сопротивляется. Река выходит за пределы созданных руками человека границ и затопляет город. Даже абсолютная светская власть, воплощенная в царях России, неэффективна против восстаний стихийных бедствий.Показано, что царь Александр I размышляет о том, что «цари не могут овладеть божественными стихиями».
Даже когда паводок утихает, Евгений просыпается от сна на набережной от звука «угрюмой волны… укоризненно / ворча и ударяясь о гладкие шаги». Изображение предполагает, что сила реки только временно скрыта, но не побеждена даже могущественной волей царя Петра I. В то время как цивилизация в краткосрочной перспективе выиграла битву с природой, война продолжается. Таким образом, хотя стихотворение показывает относительную уязвимость бедных и бессильных, оно также подчеркивает хрупкость всех человеческих усилий, будь то усилия могущественного царя, такого как Петр I, или обычного человека, такого как Евгений.
Героическая или эпическая поэма
Героический (известный также как эпос) стиль поэзии был популярен в русской литературе XVIII века. Он характеризуется возвышенным стилем языка и включает в себя главного героя воина или государственного деятеля, действия которого определяют судьбу империи. В России его обычно использовали для прославления царей и их генералов или чиновников. Пушкин использует героический образ во вступлении к «Медному всаднику», чтобы описать царя Петра I и его грандиозное видение строительства города Св.Петербург на болотах. Однако он отходит от героической традиции, сопоставляя героический или эпический режим с реалистическим, которым описывается скромный поступок Евгения.
Русский романтизм
Русский романтизм зародился из сентиментализма восемнадцатого века примерно в 1815 году. Его ранними сторонниками были поэт, сказочник и переводчик Василий Андреевич Жуковский, в котором Пушкин оказал большое влияние, и поэт Константин Батюшков. .Романтизм достиг своего пика в 1820-х и 1830-х годах с такими писателями, как Михаил
Лермонтов, и к началу 1840-х годов был вытеснен реализмом в произведениях таких писателей, как Николай Гоголь (который, однако, в первую очередь классифицируется как романтик).
Пушкин принято относить к писателям-романтикам. Это правда, что он оказал влияние на русских писателей-романтиков, таких как Лермонтов, и что его произведения включают основные темы европейских писателей-романтиков. К ним относятся особая роль поэта, важность свободы от социальных и политических ограничений, ценность эмоций и субъективного опыта как средства к истине, а также интерес к народной литературе.Особым акцентом русского романтизма была националистическая гордость. Примеры романтических тем в «Медном всаднике» включают признание Пушкиным роли поэта графа Хвостова в увековечивании стихов о потопе; сочувствие, которое он проявляет к страданиям Евгения под тиранической волей Петра I; акцент на переживаниях Евгения, царя Александра и Петра I; гордость поэта за город Санкт-Петербург, за историю и достижения России. Аспекты романтической позиции, очевидные в «Медном всаднике», включают иронию и симпатию к оппозиции Евгения существующему порядку.
Тем не менее, стихотворение Пушкина также является примером классических добродетелей, таких как ясность, рациональность (представлены и почитаются точки зрения Петра I и Евгения) и умеренность, поскольку поэт не отождествляет себя с крайностями эмоций, но стоит в стороне от них и наблюдает за ним. Поэме, как и остальным произведениям Пушкина, также недостает страсти, порожденной моральной приверженностью, которая стала ассоциироваться с русским романтизмом и перешла в русский реализм.
Вместо того, чтобы относить Пушкина к категории писателей-романтиков, правильнее было бы назвать его прежде всего писателем-романтиком с сильными элементами классицизма и реализма.
Персонификация
На протяжении всего стихотворения персонифицируется река Нева (персонификация — литературный прием, в котором неодушевленному предмету наделяются атрибуты человека). Во Введении поэт утверждает, что при строительстве города река была облицована гранитом. Это представлено как «покорение стихий». Кажется, что вода возмущается своей «враждой и древним рабством», поскольку поэт умоляет ее забыть эту историю конфликта с Петром и не нарушать его «вечный сон» своей «пустой злостью».«Рабство» явно относится к прирученной реке, но русские читатели Пушкина также должны были иметь связь с порабощенными крестьянами-строителями города. В этом стихотворении исконные крестьянские жители местности представлены почти как часть пейзажа, как часть природы: их хижины «как черные пятнышки на мшистых заболоченных берегах» сливаются с окружающей природой. Таким образом, вражда и память о рабстве, угрожающем покою Петра (и его городу), хранится у реки и, возможно, у тысяч мертвых крестьян-строителей.
Первоначально, в начале шторма, который вызовет наводнение, река Нева кажется на стороне города, изо всех сил пытаясь вытечь в море против ураганных ветров, дующих с Финского залива. Но когда его борьба оказывается тщетной, река становится «обезумевшей» и «бросается на город, как зверь». Здесь река олицетворяет враждебного и жестокого нападающего. Это подтверждается описанием наводнения как «Осада! Атаковать!» Затем поэт переходит к описанию волн наводнения как к хитрым ворам, которые лезут в дома через окна и крадут чужие вещи.Хотя этот образ, кажется, осуждает реку, впоследствии он изображается как избавитель от гнева Бога: «Люди взирают на гнев Божий / И ждут своей гибели». В явном виде не говорится, почему Бог гневается на город, но один из возможных ответов предлагает другой религиозный образ в стихотворении, описание Петра I как «Образ». Русское слово «Образ» — кумир , слово, которое обычно обозначает языческого идола. Хотя Пушкин не был религиозным в ортодоксальном смысле, он, возможно, предполагал, что Петр кощунственно (и вопреки законам природы) возвысил себя до божественного статуса в своем высокомерном акте основания города так близко к воде.
Однако было бы неверно заключить, что Пушкин осуждал создание города. Его песнь городу, начинающаяся словами «Я люблю тебя, творение Петра», детализирующая прекрасные виды и звуки Санкт-Петербурга, искренняя и искренняя. Правильнее было бы предположить, что Пушкин, как и многие русские, имел двойственное отношение к городу. Он был в состоянии одновременно сохранять благодарность Петру за создание Санкт-Петербурга и чувство возмущения, проявленное против природы и тысяч крестьянских рабочих в процессе созидания.
Персонификация также используется в стихотворении для оживления Медного всадника, статуи Петра I, в персонажа, воплощающего его дух. Сцена, в которой статуя, кажется, оживает и преследует Евгения по улицам в отместку за его неповиновение, подчеркивает всемогущий характер царственной власти Петра, неустрашимый даже смертью.
Основание Санкт-Петербурга
Царь Петр I основал русский город Санкт-Петербург 27 мая 1703 года (по новому стилю) на земле, известной как Ингрия, отвоеванной у Швеции в начале Великой Отечественной войны. Северная война (1700-1721).Исторически Ингрия была заселена финскими народами, поэтому во введении к «Медному всаднику» упоминаются финны, жившие на месте будущего Петербурга.
История основания Санкт-Петербурга Петром I хорошо известна в России. Пользуясь своей прерогативой царя, он был призван на принудительные работы, установив квоту в 40 000 крестьян в год. Крестьяне выходили из домов и шли к месту под вооруженной охраной, часто на сотни миль. Они должны были предоставить свои собственные инструменты и пищу, и многие были скованы наручниками, чтобы предотвратить дезертирство.Они возвели город Петра из негостеприимных болот в суровых климатических условиях. Тысячи людей умерли от переохлаждения, голода и болезней, а это означает, что в любой год потери в результате смертности составят пятьдесят процентов, а общая численность рабочей силы составит 20 000 человек. Так, в России говорят, что Петербург основан на костях крестьян, которые его построили. В «Медном всаднике» судьба Евгения символизирует судьбу рабочих-крестьян, поскольку все они рассматриваются как жертвы самодержавной воли Петра I.
Цели Петра в строительстве Санкт-Петербурга были выполнены, как в поэме, так и в истории. Ко второй половине девятнадцатого века Санкт-Петербург был ведущим торговым портом и промышленным центром, что способствовало выводу России из средневекового государства. Поскольку Петр нанял величайших европейских архитекторов и спланировал город как единое целое, город является образцом городского планирования и славится своей красивой и впечатляющей архитектурой в стиле барокко.
Всемирный потоп 1824 года
Потоп в Санкт-Петербурге.Петербург, о котором рассказывается в «Медном всаднике», произошел 19 ноября (по новому стилю) 1824 года. Он остается самым серьезным наводнением в истории города. Пушкин в то время находился в ссылке на юге России. Источником фактов наводнения послужил «Подробный исторический отчет о всех наводнениях, произошедших в Санкт-Петербурге (1826)» В. Н. Берча , который Пушкин хранил в своей библиотеке. Оценки жертв наводнения 1824 года сильно различаются, но «Св. «Петербургское исследование по оценке воздействия на окружающую среду защитных барьеров от наводнений: краткое содержание» приводит цифру более 300 человек.
Самодержавие в России
Петр I был в значительной степени ответственен за превращение России в автократическое государство. Он отменил старую Боярскую думу, или консультативный совет дворян, и заменил его сенатом, которому он поручил сбор налогов от своего имени. Он также отменил все остатки местного самоуправления и заставил всех дворян перейти на государственную службу. Этой автократической модели монархии следовали последующие цари России, и она преобладала во времена Пушкина. Две великие революции против самодержавия произошли в 1825 году (восстание декабристов) и русская революция 1917 года.Последняя революция отменила монархию и положила начало коммунистическому правлению в Советской России. Автократическое правление процветало при коммунизме, когда такие диктаторы, как Иосиф Сталин (1878–1953), установили почти полный контроль над обществом и централизовали основу власти. После распада Советского Союза в 1991 году рост многопартийной системы привел к децентрализации власти, хотя президент Владимир Путин, который пришел к власти в 1999 году, подвергался критике за то, что он повернул вспять этот процесс либерализации.
Восстание декабристов
Восстание декабристов произошло 26 декабря 1825 года (новый стиль). Поводом для восстания стало вступление на престол консерватора Николая I после того, как его старший брат Константин отказался от претензий на престолонаследие. Группа либеральных офицеров российской армии возглавила акцию протеста на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, состоящую из трех тысяч солдат. Они отказались присягать новому царю, вместо этого потребовав конституцию. Царские войска легко подавили восстание.После этого судили двести восемьдесят девять декабристов. Пятеро были казнены, 31 заключен в тюрьму, остальные сосланы в Сибирь. Последующие поколения русских диссидентов считали их мучениками. Поскольку восстание произошло в декабре, восставших назвали декабристами. В 1925 году, к столетию восстания, Сенатская площадь была переименована в площадь Декабристов.
Пушкин не принимал непосредственного участия в восстании, поскольку находился в ссылке на юге России, хотя он понял, что был замешан, когда у декабристов были обнаружены копии его ранних политических стихов.Пушкин уничтожил все свои бумаги, которые он считал опасными, и избежал возмездия, позже заключив, что судьба выделила его как единственного уцелевшего из лучших надежд своего поколения. Однако всю оставшуюся жизнь за Николаем I внимательно следили за Пушкиным, а его произведения подвергались цензуре.
СРАВНИТЬ И КОНТРАСТ
- 1830-е: Царь Николай I (годы правления 1825-1855) известен как один из самых самодержавных русских монархов. После восстания декабристов Николай усиливает контроль над образованием и издательской деятельностью и управляет эффективной сетью шпионов и информаторов против своего народа.
Сегодня: В 2004 году президент России Владимир Путин встревожил некоторых международных наблюдателей, усилив контроль президента над парламентом, гражданским обществом и региональным правительством.
- 1830-е: Царь Николай I подвергает цензуре литературные произведения, в том числе «Медный всадник» Пушкина, и внимательно следит за его автором.
Сегодня: Международную озабоченность вызывают нераскрытые убийства российских журналистов, многие из которых, как известно, критикуют президента Владимира Путина и его режим.
- 1830-е: Ежегодные наводнения в Санкт-Петербурге достаточно серьезны, чтобы затопить улицы и подвалы в низинных районах города.
Сегодня: В Санкт-Петербурге продолжается наводнение, которое, похоже, становится все более частым. Комплекс сооружений по предотвращению наводнений в Санкт-Петербурге (также известный как Санкт-Петербургская плотина) находится в стадии строительства, чтобы попытаться предотвратить серьезные наводнения в будущем. Президент Владимир Путин поставил цель завершить строительство плотины к 2008 году.
Восстание декабристов оказало глубокое влияние на русскую романтическую литературу. Русские писатели, такие как драматург Александр Грибоедов и поэт и прозаик Михаил Лермонтов, стали считать себя противниками существующего строя. Пушкин делает сильно завуалированную ссылку на восстание декабристов во второй части «Медного всадника», когда он начинает рассказ Евгения через год после ноябрьского наводнения 1824 года, осенью 1825 года. Последнее злобное, но тщетное столкновение со статуей Петра I («Ну ладно, чудотворец, погоди!») произошло незадолго до восстания декабристов.Это добавляет особого пафоса телу Евгения, обнаруженному вскоре после этого на пороге разрушенного дома Параши: он становится символом павших декабристов. Тот факт, что его тело было найдено и захоронено на острове за пределами Санкт-Петербурга, является символической ссылкой на ссылку, ставшую судьбой многих писателей (в том числе Пушкина) и интеллигенции как в царской, так и в советской России.
Статуя Фальконе
Конная статуя Петра I, стоящая на площади Декабристов (бывшая Сенатская площадь) в Санкт-Петербурге.Петербург создан французским скульптором Этьеном Морисом Фальконе (1716-1791) и был заказан царицей Екатериной II (Екатерина Великая, правила 1762-1796 гг.) В память о ее королевском предшественнике. Статуя обращена на запад, в направлении Европы, символизируя решимость Петра вестернизировать русскую культуру и технологии. Статуя стала известна как Медный всадник по поэме Пушкина и является символом города точно так же, как Статуя Свободы является символом Нью-Йорка.
Адам Мицкевич
По словам Эндрю Кана в «Медном всаднике» Пушкина, Пушкин указал в сноске к стихотворению, что его описание статуи Петра I является ответом на произведение польского поэта-романтика Адама Мицкевича. (1798-1855). Произведение представляет собой стихотворную драму Мицкевича Канун Праотца , в которой рассказывается о путешествиях повествователя в Санкт-Петербург и его философских размышлениях о столице. «Он размышляет о том, что произойдет со статуей, которую он называет« каскадом тирании », когда теплое солнце свободы начнет сиять над российским обществом.Рассказчик видит в городе прихоть аристократа, а не органический продукт русской культуры, и как символ нечеловеческого качества жизни в России.
Хотя Пушкин считается самым влиятельным русским писателем начала XIX века, его произведения редко читают за пределами России, в основном потому, что трудно передать силу и музыку его стихов в английском переводе. Тем не менее, в России и за рубежом «Медный всадник» обычно считается одним из величайших произведений Пушкина, уступая только Евгению Онегину , его роману в стихах.
Одним из первых читателей «Медного всадника» был цензор Пушкина, царь Николай I. Николай возражал против изображения Пушкиным своего царского предшественника Петра I. , удалить. Он возражал против отрывка о закате Москвы и хотел положить конец решающему финальному противостоянию между Евгением и статуей. Пушкин отказался от сокращений и отказал в публикации. Стихотворение было опубликовано в подвергнутой цензуре (цензуре) форме, с изменениями, в значительной степени соответствующими просьбам царя, в 1841 году, через четыре года после смерти Пушкина.Сокращения сильно исказили смысл стихотворения. Эта версия легла в основу ее критического восприятия на протяжении девятнадцатого века. Во многих изданиях, опубликованных после 1841 года, также присутствуют версии, которые в некоторой степени подверглись цензуре, и только после издания Павла Щеголева 1924 года текст был реконструирован, как задумал Пушкин. Обнаружение нового материала и вариантов стихотворения среди рукописей Пушкина привело к публикации максимально точной версии в редакции Н. Измайлова 1978 года.
Популярность стихотворения возросла благодаря этим попыткам восстановить его целостность. Его почти не замечали до 1870-х годов, хотя уже в 1832 году сам Пушкин был провозглашен «русским народным поэтом» другим известным русским писателем, Николаем Гоголем, в его эссе «Несколько слов о Пушкине». В своем эссе (перепечатано в «Русской литературе за три квартала ») Гоголь пишет: «В нем заключено все богатство, сила и многогранность нашего языка». Влиятельный критик Виссарион Г.Белинский (1811-1848), используя цензурированную версию стихотворения, подчеркивает во Введении позитивное изображение царя Петра I. Действительно, согласно Эндрю Кану в «Медном всаднике» года Пушкина, Белинский видит «в праздновании петровского творения аргумент, что практические цели (вестернизация) оправдывают политические средства (тиранию)». Далее Белински пишет о стихотворении: «Кротко в душе мы признаем победу генерала над индивидуумом, не теряя сочувствия к его страданиям.
Леонид Гроссман (цитируется Каном) в своей биографии 1939 года под названием Пушкин продолжил традицию интерпретации стихотворения в пропетровской манере. На языке, напоминающем современные хвалебные речи тогдашнего российского лидера Иосифа Сталина, Гроссман обращает внимание на «могучую творческую энергию характера Петра».
В статье 1992 года для Partisan Review Джон Бейли отмечает, что Пушкин «видел насквозь» авторитет », но при этом был очарован им, а в некотором смысле восхищался им.Он добавляет, что это стихотворение является таким же прославлением Петра I, «как и криком жалости и протеста снизу, для маленького человека, который только хочет жениться на своей возлюбленной и жить тихой жизнью». Бейли отмечает, что эта амбивалентность стала характерной чертой русского реализма на примере таких писателей, как Гоголь, Достоевский и Толстой.
Петр I. Барта в своем эссе Reference Guide to World Literature 1995 года обращает внимание на роль стихотворения в создании мифа о св.Петербург. Барта подчеркивает двусмысленность в подходе поэта к городу, который, по мнению Барты, определяется дихотомиями: «Европейское великолепие и русская бедность; городская цивилизация и неподходящие климатические условия »; и «фантастический город, в котором человеческие чаяния сводятся на нет». Александра Смит отмечает в книге «Двести лет Пушкина», том II: «Александр Пушкин: миф и памятник », что сам Пушкин относился к городу неоднозначно. Хотя он решил поселиться там после женитьбы, когда он получил известие о наводнении в 1824 году, он написал своему брату, что это «именно то, что нужно для проклятого Петербурга».”
Поэма продолжает привлекать к себе похвалу и внимание критиков, при этом многие критики обращают внимание на элементы стихотворения, связанные с психологическим интересом и иронией.
Клэр Робинсон
Робинсон имеет степень магистра английского языка. Она бывший учитель английской литературы и творческого письма, а в настоящее время является писателем и редактором-фрилансером. В следующем эссе Робинсон исследует, как Пушкин использует героический и реалистичный приемы, чтобы прокомментировать действия и персонажей «Медного всадника».
В «Медном всаднике» Пушкин использует два различных режима: героический и реалистический. В русской литературе XVIII века преобладал героический (иначе известный как эпос) уклад. Он характеризуется возвышенным стилем языка и включает в себя главного героя воина или государственного деятеля, действия которого определяют судьбу империи. В России его обычно использовали для прославления царей и их генералов или чиновников. Пушкин использует героический образ во Вступлении к «Медному всаднику», чтобы описать Петра I и его великий план.Петр I описывается как «полный высоких мыслей», направленных на укрепление стратегических позиций России. Затем поэт переходит к одическому стилю (часто используется в героических стихах), восхваляя город: «Я люблю тебя, творение Петра». В конце Введения поэт обращается к городу как в молитве: «Хвастайся своей красотой, Петр / Город, и стой непоколебимо, как Россия».
В отличие от своих предшественников, Пушкин не довольствовался героическим укладом. Он сочетает героическое с реалистичным.Реалистичный режим, представленный в части 1, используется для описания скромного клерка Евгения и его действий. Стиль очень отличается от того, который Пушкин использует для описания Петра I и его действий: он повседневный, разговорный, обыденный. Он как бы болтает с читателем пишет: «Этим именем назовем / нашего героя. Это приятно, и / уже давно мне по душе ». С кривым юмором он описывает приземленный, незамеченный и повседневный характер существования Евгения: он «работает / Где-то, избегает тропы знаменитых, скорбит / Ни мертвых родственников, ни забытого прошлого.Все эти факты контрастируют с жизнями великих людей, таких как царь Петр и царь Александр, действия которых далеко не анонимны и затрагивают множество людей, и которые черпают свою силу в древних родословных (мертвые родственники и прошлое).
Затем Пушкин соединяет героическое и реалистическое, и результат оказывается явным. Реалистично описав наводнение, он знакомит царя Александра с напоминанием о героическом образе: «покойный царь во славе». Однако все, что может славный царь, — это стоять на своем балконе вдали от народа и с грустью размышлять о катастрофе.Он справедливо заключает, что «цари не могут овладеть / божественными стихиями». Вся имперская власть в мире неэффективна против действий природы. Что касается Петра, которого в этом месте стихотворения символизирует его статуя, то он лишь отворачивается от страданий Евгения и его соотечественников: «Он повернулся спиной / К нему в непоколебимой величии». Он сохраняет свой властный жест, протягивая руку для командования, но у него нет силы командовать стихиями. Таким образом, Пушкин подрывает традиционный героический стиль реалистическим.
Один из способов, которым Пушкин подрывает героическое, — это использование иронических параллелей: он отражает героическое событие или жест с явно негероическим аналогом таким образом, чтобы последний комментировал первое. Такие параллели включают темы и изображения.
ЧТО Я ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ?
- «Собрание рассказов » («Библиотека обывателя», 1999 г.) Александра Пушкина представляет наиболее уважаемые и доступные прозаические произведения Пушкина, в том числе «Сказки покойного Ивана Петровича Белкина», «Капитанская дочка» и « Пиковая дама.Написанные в его ясном, сдержанном стиле, эти рассказы охватывают романтические, меланхолические, юмористические и психологические темы.
- Собрание сказок Николая Гоголя (2003), написанное Н. В. Гоголем в переводе Ричарда Пивера и Ларисы Волохонской, предлагает самые известные рассказы Гоголя, действие которых происходит на Украине и в Санкт-Петербурге. Гоголь был известным русским писателем, на которого оказал влияние Пушкин. Элементы, которые объединяют эти произведения с пушкинским «Медным всадником», — это сверхъестественная тайна и симпатия к обыкновенному человеку, хотя переживания обычных людей Гоголя пронизаны необычным.
- Лорд Байрон: Основные произведения (2000) Джорджа Гордона Байрона под редакцией Джерома Дж. МакГанна содержит основные стихи и прозу английского писателя-романтика. Байрон оказал на Пушкина значительное влияние с точки зрения иронического стиля и бунтарского, отчужденного отношения. Читатели, плохо знакомые с Байроном, могут начать с повествовательных стихов «Паломничество Чайльда Гарольда» или «Дон Хуан».
- Санкт-Петербург: история культуры (1997) Соломона Волкова предлагает увлекательный обзор писателей, художников и композиторов, внесших свой вклад в культурную эволюцию Санкт-Петербурга.Петербург от его основания в 1703 году до наших дней. Среди известных личностей — писатели Достоевский, Гоголь и Анна Ахматова; композиторы Петр Ильич Чайковский, Модест Петрович Мусоргский, Николай Андреевич Римский-Корсаков, Дмитрий Шостакович, Александр Порфирьевич Бородин.
- В фильме Солнечный свет в полночь: Санкт-Петербург и подъем современной России (2002) У. Брюс Линкольн прослеживает историю возникновения города, затем изображает великолепные здания царей восемнадцатого века, за которыми следует подъем промышленные трущобы, разочарование, насилие, интеллектуальное брожение и революция.Линкольн также рассказывает о героизме 900 дней осады города во время Второй мировой войны.
Примером параллельной темы является сон. И у Петра I, и у Евгения есть мечта. Петр мечтает основать великий город, который остановит шведов и станет окном России в Европу; Евгений мечтает о спокойной жизни в скромном доме с Парашей и их детьми. Контраст между двумя снами разительный. Хотя на первый взгляд может показаться, что мечта Петра будет самой трудной для исполнения, оказывается, это самая основная и амбициозная мечта Евгения, которая оказывается невыполнимой.Несбывшуюся мечту Евгения сметает сбывшаяся мечта Петра. Пётр строит свой город на пойме, и наводнение уничтожает любимую Евгению и, косвенно, всю его жизнь. После наводнения мечта Евгения о жизни с Парашей превращается в отчаянную мысль о том, что вся жизнь — «не что иное, как пустой сон, небесная шутка».
Примером параллельного изображения является конная статуя, две версии которой присутствуют в стихотворении. Первый — это бронзовый всадник, статуя Петра I, стоящая на Сенатской площади.Эта статуя упоминается в стихотворении как «Образ», напоминающая почитаемого идола. Статуя изображает Петра с протянутой рукой в командном жесте, как бы повелевающем, богоподобно, о создании Санкт-Петербурга. Его лошадь встает на дыбы под действием «железного бордюра» Питера, резкого укуса, который может причинить лошади боль при нечувствительном обращении и может заставить ее встать, чтобы избежать давления на ее пасть. Пушкин проводит аналогию прямо: это действие уподобляется тому, как Петр своей неукротимой волей «воздвиг Россию».Это акт насилия и тиранической власти. Более того, конь встает «на краю пропасти», поскольку статуя стоит на огромной скале, напоминающей обрыв. Это свидетельствует об огромном риске, который Петр взял на себя, строя свой город на болотистой местности, подверженной наводнениям, — упражнение, которое на современном языке можно было бы назвать балансом на грани . Статуя демонстрирует высшую уверенность, присущую абсолютной власти, которой пользовался Петр. Это божественная сила, распространяющаяся на жизнь и смерть граждан Св.Петербург, как показывает судьба Евгения.
Ироничный аналог конной статуи — статуя льва, на которой Евгений садится, спасаясь от наводнения. Душевное состояние Евгения и его физическая позиция прямо противоположны Петру: где Петр уверен, Евгений напуган; где Петр смотрит вдаль, «Полный высоких мыслей», Евгений смотрит вдаль, пытаясь разглядеть дом Параши; где Петр командует протянутой рукой, Евгений скрещивает руки в оборонительной позе.Даже лев приобретает иронический тон: это лев-хранитель, но его опека избирательна: в то время как особняк, за которым он стоит, выдерживает наводнение, дом Параши и имущество городских бедняков сметены. Контраст между двумя изображениями всадников — между имперской властью и беспомощностью Евгения, хотя большая ирония заключается в том, что имперская власть так же беспомощна, как скромный клерк перед лицом сил природы. Имперская власть, сталкиваясь с чем-то, что не может контролировать, просто принимает безразличное отношение, что символизируется изображением статуи Петра, повернутой спиной к Евгению.Хотя имперская власть неэффективна в оказании помощи простым людям, она также «непоколебима».
Подтверждая эту идею о непримиримости власти, во Введении проводится подразумеваемая аналогия между Петром I и Богом как творцом. Петр упоминается не по имени, а лишь с благоговением — « хе », напоминая ветхозаветный запрет на упоминание имени Бога. Строительство города Петром отражает создание вселенной, как описано в библейской Книге Бытия, в которой Бог сначала создает свет из тьмы.Место, на котором Петр строит Санкт-Петербург, описывается образами первозданной тьмы: даже лес, место «мрака», «никогда не посещается лучами / окутанного туманом солнца». Напротив, поэт характеризует построенный город как место света. Он описывает белые ночи, во время которых он может читать и писать без лампы; улицы «ярко светятся», «Адмиралтейский шпиль / Сияет», девушки с яркими лицами едут на санях по замерзшей реке, шары полны «искры» и голубое пламя горящего удара.
Эффект от этого уподобления Петра I Богу заключается в том, чтобы предположить, что его воля не меньше, чем историческая судьба России, и подтвердить его заявление о том, что «нам суждено / прорубить окно в Европу». И снова в изображении окна предлагается привнесение света (Европа в то время считалась более высокой цивилизацией, чем Россия) в Россию, погруженную в средневековую тьму.
Хотя Петр получает свое окно в Европу, он не может изгнать силы природы, символизируемые тьмой.Героические устремления Петра противопоставляются реальным силам природы. Как показано в стихотворении царь Александр, цари не имеют власти над стихиями, которые столь же «божественны», как всемогущественная воля Петра. Потоп угрожает творению Петра: описывается, что он произошел ночью в «затемненном Петрограде». Когда Евгений понимает, что дом Параши смыл наводнением, за этим моментом следует описание ночной тьмы, обрушившейся на город, и людей, обсуждающих ужасы катастрофы.С рассветом приходит очевидное восстановление порядка Петра, и никаких следов бедствия не остается. В действительности, однако, ночные потери не исчезли, а просто были «покрыты пурпурным плащом», плащом имперской власти и воли.
Стихии природы временно подавлены, но не побеждены, как день побеждает ночь. Природа и цивилизация, как тьма и свет, простые люди и их правители, реалистическое и героическое, суждено сосуществовать в пушкинской России, иногда в условиях непростого перемирия, а иногда в условиях открытого конфликта.
Источник: Клэр Робинсон, Критический очерк о «Медном всаднике», в Поэзия для студентов , Гейл, Cengage Learning, 2008.
Катарина Таймер Непомнящий
В следующем отрывке «Пушкинский» утверждает, что «Непомнящий» «Медный всадник» находился под сильным влиянием рассказа Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной лощине».
… И Евгений, и Икабод в параллельных отрывках, в которых они развивают свои видения будущего супружеского счастья, раскрывают свою силу воображения.А размышления Евгения («Женица? Ну… за чем же нет?…» [Жениться? Ну… почему бы и нет?…]), В которых он предвидит ход своей жизни до гроба, подчеркнуто прозаичны. , этот отрывок предваряется замечанием «i razmechtalsia kak поэта» (и, как поэт, задумался), предостерегающим нас не отказываться от его способности мечтать слишком легко. В соответствующем отрывке из «Легенды о Сонной Лощине» Икабод показывает себя неугомонным янки, его сердце больше привязано к щедрости, которую представляет Катрина, чем к самой молодой женщине.Он путает Катрину с собственностью, принадлежащей ее отцу, и мечтает о ликвидации этих владений, превращении этого места в движимое имущество, раскрывая плодородное воображение, как земля, которую он жаждет:
Мечты Евгения и Икабода, конечно же, сбываются. ничего, побежденные конкурирующими видениями своих более могущественных соперников.
В этом контексте я хотел бы, наконец, указать на то, что, на мой взгляд, является наиболее значительным совпадением произведений Пушкина и Ирвинга: природа и функция «сверхъестественных» всадников.В обоих случаях фигура представляет собой вторжение прошлого в настоящее. Более того, Безголовый гессен, как статуя Фальконе Петра Великого, олицетворяет исторический момент революционных социальных потрясений, последствия которых формируют современную жизнь, точно так же, как петровская «революция» создала не только физическую обстановку, но и социальный контекст, который определяет печальный путь жизни и кончины Евгения. Таким образом, противостояние между Ихабодом и Всадником без головы, с одной стороны, и между Евгением и Петром, с другой, представляет собой столкновение исторических сил, которое, несмотря на внешность, оставляет «победителя» и его «победу» в этически и даже онтологически и эстетически неоднозначная позиция.
… Нам следовало бы подражать критикам Ирвинга в предположении, что преобладающие социально-политические, исторические и даже религиозные толкования «Медный всадник », возможно, еще не исчерпывают интерпретирующих возможностей стихотворения. В другом месте я утверждал, что в стихотворении Пушкина достаточно доказательств того, что Евгения можно читать как поэта. Я не буду повторять здесь этот аргумент, а просто кратко приведу доказательства, которые, как мне кажется, подтверждают мнение, согласно которому Евгений рассматривается как «писатель», попавший в ту же сеть ограничений, которые обусловили литературные устремления самого Пушкина.Посмотрев любое количество ученых на «Медный всадник », я не предлагаю читать Евгения «автобиографически» (хотя автобиографические параллели между Пушкиным и его главным героем подтверждают мой аргумент). Евгений «есть» Пушкин не больше, чем комично нелепый Икабод Крейн «есть» Вашингтон Ирвинг. Скорее, я предполагаю, что Пушкин поставил Евгения в ситуацию, которая, несомненно, резонировала с его собственным литературным контекстом.
В этом отношении мы должны прежде всего признать, что противостояние Евгения и царя, самодержца и подданного составляет, по крайней мере, такую же проблему писателя , то есть определенно определяющее состояние литературной культуры пушкинских дней, делает чисто политический вопрос.Собственные мучительные отношения Пушкина с царем слишком хорошо задокументированы, чтобы требовать здесь пересмотра, за исключением того, чтобы вспомнить, в какой степени они повлияли на литературные судьбы Пушкина. В этом отношении модель «Медный всадник » представляет собой характерный тому пример. Пушкин рассчитывал на прибыль от продажи произведений, которые он надеялся произвести в Болдино осенью 1833 года, чтобы облегчить свое когда-либо шаткое финансовое положение, о чем свидетельствует письмо, которое он написал царю 30 июля того же года с просьбой о разрешении на поездку. отсутствовал в столице:
Последние два года я занимался исключительно историческими исследованиями, не написав ни одной строчки чисто литературной.Я должен провести месяц или два в полной изоляции, чтобы отдохнуть от моих очень важных занятий и закончить книгу, которую я начал много лет назад и которая принесет мне необходимые деньги. Мне самому жаль, что я трачу время на напрасные занятия, но что мне делать? Только они приносят мне независимость и средства к жизни с семьей в Петербурге, где мои труды, благодаря государю, имеют более важную и полезную цель.
Принципиальные возражения Николая I против публикации Медного всадника разбили надежды Пушкина.Таким образом, в то время как Ирвинг сетовал на отсутствие аристократического покровительства искусства, оставшегося во власти растущей коммерциализации американской литературы, Пушкин, по сути, оказался между этими двумя мирами: своей зависимостью от царя (пережиток старой покровительственной системы) и его потребность жить, прежде всего, за счет собственных произведений в условиях культурной экономики, которая предпочитала прозаику «джентльменским поэтам». Более того, отвращение Пушкина к «отребью» читающей публики, которое наиболее ярко выражено в таких произведениях, как «Разговор книготорговца с поэтом», нашло отражение и в «Медный всадник ».Если рассматривать Евгения как представителя «народа», то тем более резким выглядит бездушное безразличие петербургского народ к его судьбе, особенно настойчивость Пушкина в его меркантильности:
… (И порядок был снова восстановлен. / С холодной бесчувственностью / Толпы ходили по улицам / Так недавно были освобождены водами. / Выбравшись из убежищ прошлой ночи, / Чиновники поспешили на свои рабочие места. / Бесстрашный купец, не отчаивающийся, / Открыл свой разграбленный погреб / И подсчитал свои тяжелые потери / За что планировал отомстить.)
В конечном итоге Евгений — это «писатель», писарь, который «служит» ( служит ) государству за деньги, печальное поражение для отпрыска дворянского рода, некогда «сиявшего под Карамзиным». перо »( под пером Карамзина … прозвучало ) и грустный комментарий о том, что писатель унижается не только перед публикой, но и перед государством за его средства к существованию.
Обратимся к решающему противостоянию Евгения и статуи.Прежде всего, отметим, что вызов Евгения статуе — «Добро, строитель чудотворный! … Ужо тебе! » (Погодите, гордый чудотворец!) — представляет собой единственный случай прямой речи в стихотворении, и его слова специально адресованы Петру Великому как чудесному строителю города, задающему, осмелюсь сказать, творческую задачу. . Ответ «Медного всадника» на вызов Евгения можно интерпретировать двумя способами: либо статуя действительно оживает, либо событие происходит только в воображении Евгения.Я бы сказал, однако, что последнее, «натуралистическое» объяснение дает более богатое прочтение стихотворения. Если статуя оживает только в сознании Евгения, то бедный клерк становится суррогатом поэта, который не только вызывает реакцию у доселе бесстрастной статуи, но по сути «переписывает» Петра в готическом стиле, «вытесняя» статую из материальной реальности. в царство фантазии поэта. Таким образом, может показаться, что стихотворение представляет нам два симметричных творческих акта — Петра в начале и Евгения в конце, сопоставление которых предполагает способ бытия писателя в автократическом государстве.Таким образом, как предполагает Пушкин, творческое воображение может уступить политической реальности в исторической плоскости — город Петра будет стоять еще долго после того, как пройдет мимолетное мгновение поэтического вдохновения Евгения. Но в то же время художественный акт — какими бы нематериальными ни были его плоды — обладает способностью трансформировать, «вытеснять» материю исторического мира. В противостоянии поэта и царя поэт побеждает в невидимом пространстве разума.
Позвольте мне в заключение повторить, что неудивительно, что и Пушкин, и Ирвинг обращаются в своих самых устойчивых произведениях к силам, которые сформировали и ограничили их собственную писательскую карьеру, стоявшей у истоков возникновения их национальных литератур на мировом рынке. мировая сцена, преследуемая призраком непреодолимого наследия западноевропейского культурного прошлого.Очевидно, что угрозы, исходящие от литературы со стороны их соответствующих культур, были разными, как это щедро продемонстрировала история. Столь же ясно, что Пушкин знает Америку и его отношение к новой демократии, как он выразился через несколько лет после завершения «Медный всадник» , и незадолго до своей смерти, смешало неохотное восхищение с явной враждебностью. Тем не менее в Ирвинге, казалось бы, он нашел родственную душу или, что более важно, товарища-писателя, пойманного, как и он сам, в болезнях роста молодой литературной культуры, которой он, как и Пушкин после него, давал непреходящие форма через его работы.
Источник: Катарина Таймер Непомнящая, «Медный всадник Пушкина» и «Легенда о Сонной лощине» Ирвинга: любопытный случай культурного перекрестного оплодотворения, в Slavic Review , Vol. 58, No. 2, Summer 1999, pp. 337-51.
Барта, Петр I., «Медный всадник: обзор», в Справочник по мировой литературе , 2-е издание, под редакцией Лесли Хендерсона, St. James Press, 1995.
Бейли, Джон, «Рассказы Пушкина, ”В Партизанское обозрение , Vol.59, No. 2, Spring 1992, pp. 197-215.
Гоголь, Николай, «Несколько слов о Пушкине», в «Русская литература за три квартала» , Vol. 10, 1974, с. 180-83.
Гуче, Джордж Дж., «Александр Сергеевич Пушкин», в Словаре литературной биографии , том 205: Русская литература в эпоху Пушкина и Гоголя: Поэзия и драма , под редакцией Кристины А. Райдел, The Gale Group, 1999, стр. 243-80.
Кан, Андрей, «Медный всадник» Пушкина, Bristol Classical Press, 2006, стр.9-11, 99-100.
NEDECO, Исследование воздействия на окружающую среду барьера для защиты от наводнений в Санкт-Петербурге Краткое изложение , 16 августа 2002 г., стр. 1-2.
Пушкин, Александр, «Медный всадник», в Медный всадник и другие стихотворения , перевод с предисловием Д. М. Томаса, Penguin Books, 1982, стр. 247-57.
Смит, Александра, «Возвращение к императорскому образу Пушкина в Санкт-Петербурге», в Двести лет Пушкина, Том II: Александр Пушкин: Миф и памятник , под редакцией Роберта Рида и Джо Эндрю, Родопы, 2003, стр.117-38.
Файнштейн, Элейн, Пушкин: биография , Ecco, 2000.
Эта книга британского поэта и писателя — одна из наиболее читаемых биографий Пушкина, в которой подробно рассказывается о его бурной личной жизни, любовных связях и событиях. это привело к дуэли, в которой он погиб.
Гор, Ал, Неудобная правда: планетарная чрезвычайная ситуация глобального потепления и что мы можем с этим сделать , Rodale Books, 2006.
Многие климатологи считают, что стихийные бедствия, такие как ураганы, наводнения и засухи увеличиваются из-за избытка углекислого газа в атмосфере, вызванного сжиганием человеком ископаемых видов топлива, явлением, известным как глобальное потепление.Книга Гора (и его одноименный фильм) объединяет научные доказательства антропогенного изменения климата в легко понятной форме и предлагает практические решения проблемы.
Кан, Эндрю, изд., Кембриджский компаньон Пушкина , Cambridge University Press, 2007.
Эта книга представляет собой сборник эссе ведущих ученых, обсуждающих творчество Пушкина в политическом, литературном, социальном и интеллектуальном аспектах. контексты.
Мэсси, Сюзанна, Земля Жар-птицы: Красота Древней Руси , Саймон и Шустер, 1980.
Эта популярная и тщательно проработанная книга дает доступный и увлекательный обзор истории и культуры России с 987 по 1917 год. Она стала оригинальным текстом для всех, кто хочет понять русский народ и народ.
Маккуэйд, Джон и Марк Шлейфштейн, Путь разрушения: опустошение Нового Орлеана и приближающаяся эра супер-бурь , Литтл, Браун, 2006.
В 2005 году Соединенные Штаты пережили собственное катастрофическое наводнение. наравне с St.Петербургское наводнение 1824 года. В этой книге исследуются события, приведшие к урагану Катрина и последующему наводнению Нового Орлеана, и показано, как серия ошибок за 300 лет завершилась этой предотвратимой катастрофой.
Швидковский, Дмитрий О., Санкт-Петербург: Архитектура царей , с фотографиями Александра Орлова, перевод Джона Гудмана, Abbeville Press, 1996.
Ни одно исследование Санкт-Петербурга не будет полным без исследования архитектуры, и лучший способ добиться этого при отсутствии личного визита — это изучить эту книгу о зданиях, построенных царями со времен Петра I.Текст информативен, а роскошные фотографии отдают должное красоте и гармонии этого спланированного города.
Театральная биржа — Газета Коммерсант № 23 (6985) от 10.02.2021
Во вторник утром художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников разместил на своей странице в Instagram копию письма Департамента культуры Москвы с просьбой выдать бумажное уведомление о непродлении с ним контракта. Буквально через несколько часов стало известно, что Кирилла Серебренникова заменил Алексей Агранович в Гоголь-центре.
По-новому, постом в Instagram Серебренников не только подтвердил, что покидает пост руководителя театра, но и поблагодарил — в подписи к фото — «друзей, студентов и врагов» за бесценный опыт. , выразил надежду, что театр и дальше будет работать и развиваться, пожелал членам коллектива, который он уходит против своей воли, не унывать и быть свободными в будущем.
Таким образом, информация, впервые попавшая в ленту новостей неделю назад, подтвердилась.Вечером 2 февраля, буквально в то время, когда в Гоголь-центре заканчивалось традиционное празднование дня рождения театра, информационные агентства (наивные люди могут подумать, что это совпадение) распространили информацию от основателя Московского драматического театра. Н.В. Гоголя », то есть Департамента культуры Москвы, что пятилетний контракт с Серебренниковым, подписанный бывшим руководителем ведомства Сергеем Капковым и истекающий 25 февраля 2021 года, продлеваться не будет. Собственно говоря, речь, которую произнес Кирилл Серебренников в конце вечера, была прощальной по духу — и подтверждение скорого прощания не замедлило появиться.
Тогда журналисты бросились за комментариями к руководителям ведомства и получили разворот из ворот: мы не комментируем слухи. Теперь это уже не слухи, а документ. Но нужны ли еще комментарии? После всех драматических перипетий злополучного «театрального дела» только самые легковерные горожане могут сохранить веру в то, что судьба Кирилла Серебренникова, в том числе и как художественного руководителя Гоголь-центра, решается в кабинетах театра. учредители. Поэтому петиции, которые театральные деятели собирались направить, и даже если они уже отправили, адресованные руководству Департамента культуры, были обречены остаться без ответа.Лидеры культуры города, да и всего города в целом, люди в высшей степени вменяемые, и предположить, что они охотно уволили бы художественного руководителя одного из самых продвинутых, самых популярных и востребованных зрителями театров. , несмотря на то, что в городе полно неудачных театров, мало посещаемых и вообще непонятных никому, кому это нужно, совершенно невозможно.
Собственно, после 2 февраля вопрос был только один: получили ли инструкции «избавиться от Серебренникова» или «избавиться от Гоголь-центра».Ответ нужно было дать назначением преемника: будет ли это человек «изнутри», который ценил и понимал значение «Гоголь-центра» и, по мере возможности, мог продолжить дело Кирилл Серебренников, или же «чужой», готовый пожертвовать репутацией и в соответствии с поставленной задачей уничтожить художественно успешное театральное заведение. В принципе, «продюсерская машина» Гоголь-центра работает настолько надежно, что если бы властям пришлось сделать паузу, скажем, до конца сезона, это могло не сказаться фатально на деятельности театра.
Но город решил не щекотать нервы публике — буквально через несколько часов после прощания с Кириллом Серебренниковым в Instagram пришло сообщение о назначении новым художественным руководителем актера и продюсера Алексея Аграновича. Поклонники Гоголь-центра могут посчитать это решение как минимум меньшим из зол.
Агранович, конечно, не совсем человек «изнутри» — он не ученик Серебренникова. Но он, конечно, близок к сегодняшнему «Гоголь-центру», знаком не только с репертуаром, но и с кулисами этого театра.Так, несколько лет назад он сыграл Адуева-старшего в «Обыкновенной истории», одном из самых успешных спектаклей театра, затем принял участие в «Маленьких трагедиях» Серебренникова.
Он практически ровесник вышедшего на пенсию художественного руководителя, и хотя у большинства людей он ассоциируется не столько с театральным искусством, сколько с шоу-бизнесом, поскольку он был продюсером и постановщиком церемоний открытия и закрытия Кинотавра и Золотого орла. фестивали, премия Кандинского, спектакль Данилы Козловского «Большая мечта обычного человека» и др., его можно считать человеком, близким к кругу «Гоголь-центр». Кстати, Серебренников и Агранович вместе вели вечер-концерт 2 февраля — возможно, это был непонятый публикой месседж, церемония передачи власти.
Из списка предыдущих достижений Алексея Аграновича можно вычесть еще одно важное: имея широкий круг знакомств и связей в театрально-кинематографической среде, он лоялен властям и не считается «прикрытием» и очевидным «прикрытием». инакомыслие ».Как продюсер, он обязательно должен разбираться в юридических и финансовых проблемах — учитывая, что Гоголь-центр не может избавиться от пристального и предвзятого внимания надзорных органов даже после ухода Серебренникова, это тоже несомненный плюс. Но насколько новый художественный руководитель может (и хочет) продолжать «линию Серебренникова» и что он хочет (и может) внести, покажет время — в театральных судьбах слишком многое зависит не только от рациональных намерений, но и от расположение звезд.В любом случае власти оказали Аграновичу небольшой кредит доверия, минимально возможный: он назначен на должность чуть больше года. Фактически — с испытательным сроком.
Антон Барков
.
Краткий пересказ «Бытовой истории» Гончаров И.А. (Очень кратко)
Краткий пересказ
«Обыкновенная история» Гончаров И.А. (Очень кратко)
Саша Адуев, герой романа, беззаботно живет в поселке Обломовский.Мать с массой поцелуев и указаний отправляет его в Петербург к дяде — Петру Ивановичу Адуеву. Дядя с брезгливым недоумением читает письмо девушки (теперь она уже старуха), которой увлекался в юности: какая провинциальная сентиментальность! Еще одно письмо от мамы Саши (жены покойного брата Петра Ивановича) — она вручает его дятко «этакую девушку». Напрасно женщина надеялась, что дядя подставит племяннице рот и рот его будет «из мухи носового платка».«Петр Иванович убирает комнату для Саши и дает ему первые уроки городского практицизма. В нем смешивается наивный романтизм племянника, его великолепные речи, его наивные стихи. Дядя отвергает даже образование племянника: все эти« философии ». да «риторика» непригодна для бизнеса. Саша устраивается в кабинете, чтобы переписывать бумагу. В ней находится и «литературная» работа (он знает языки!) — Перевести статью о навозе и патоке для хозяйственной журнал.
На это уходит несколько лет. У молодого Адуева была дощечка провинциальности. Он модно одевается, приобрел столичный лоск. За обслуживание ценится. Своими стихами и прозой дядя больше не видит подсобные помещения, а с интересом читает. Но Адуев решил рассказать дяде о своей любви — единственной в мире. Поднимает его дядя: молодые романтические чувства, по его мнению, не выдерживают. И конечно, это чувство не может быть вечным: кто-то «кого-то надувает».«Сам дядя тоже женился, чтобы жениться, не« по расчету »(выходил замуж за деньги), а« по расчету »- чтобы жена подходила ему как личность. Главное — вести дела. И Сашаныка из-за любви уже и статьи в редакцию вовремя не сдается.
Время шло. Надя (такая же, единственная) выбрала Александра Граф Новинского. График (молодой, красивый светлый лев) каждый день ездит в гости, катается девушка верхом на лошади. Саша страдает. Он проклинает женскую измену, хочет вызвать счет на дуэль.Со всем этим он приходит к дяде. Петр Адуев пытается внушить племяннику, что Надя не виновата в том, что он любил другого, что граф не виноват, если ему удалось завладеть Великой фантазией. Но Адуев не слушает дядю, он кажется ему циником, бессердечным. Молодая жена дяди, Лизавета Александровна (TAANTE) утешает Александра. У нее тоже есть драма: муж кажется ей слишком рациональным, он не рассказывает ей о своей любви. Молодой чуткой женщине мало того, что он помнит все свои желания, готов отдать содержимое своего кошелька на удовлетворение ее прихотей — а для Петра Адуева это большие деньги.
Саше Адуеву удалось разочароваться в дружбе: Почему приятель юных лет не залил грудь слезами, а просто пригласил на обед и стал расспрашивать о делах? Он разочарован в журналах, которые не способны оценить его литературное творчество (очень высоко и отвлеченно от жизни рассуждений). Дядя приветствует отказ от литературных произведений (у Александры нет таланта) и заставляет племянника сжечь все свои возвышенные произведения. Тетя Лизет покровительствует Саше.Хранительница Александра Ма Тантэ (тётя) как бы наполняет его той долей сентиментальности, которая пренебрегает её душой.
Дядя отдает племяннику важный приказ: «Полюбите вдову Юлию Тафаеву. Это необходимо, потому что партнер дяди на фарфоровом заводе, влюбленный и Смартиш Сурков, тратит слишком много денег на эту вдову. что у него место занято, зря сурков тратить не будет .. Инструкция блестяще составлена: Саша надсадил сентиментальную нерегулярную вдову, а сам заинтересовался.Они такие похожие! Юля тоже не представляет себе «простой тихой любви», она абсолютно необходима, чтобы «упала на ноги» и клялась «всей силой души». Поначалу Александр настолько вдохновлен родством души и красотой Юлии, что готов жениться. Однако вдова слишком навязчива, слишком покорна в своих чувствах — и молодые акуусы начинают выстраивать эти отношения. Он не знает, как выйти из вдовы, но его спасает дядя, разговаривает с Тафаевой.
Потеряв иллюзии, Александр впадает в апатию.Он не заинтересован в повышении качества обслуживания, работе в редакции. Одевается небрежно, часто целыми днями проводит на диване. Развлекает его кроме летней рыбалки. Во время посадки с удочкой он встречает богатую девушку Лизу — и готов ее соблазнить, не обременяя себя брачными обязательствами.
Отец Лизы подает младшему Адуеву с ворот поворот. Безразличие преодолевается Александром. Он не может пойти по стопам Дяди и найти себя в обществе и в деле (как бы сказали — «в бизнесе»).На скромную жизнь денег хватит? И красиво! Дядя пытается отвлечь его и получает обвинение в ответ на то, что младший Адуев по вине Адува-старшего. была душа до того, как приобрела необходимый для этого опыт.
Петр Адуев получил «награду» за добросовестную службу (и за ежемесячную карточную игру) — болит поясницу. Александра Адуува, поясница точно не хлопает! Так считает дядя. Не видит Александра Отрада в «Бизнесе». Следовательно, ему нужно ехать в деревню.Племянник выслушал совет и ушел. Тетя весь день пекла.
В деревне Александр сначала отдыхает, потом промахивается, потом возвращается к журнальной (хозяйственной) работе. Он собирается вернуться в Петербург, но не знает, как заявить об этой матери. От этих бед его спасает старуха — умирает.
В эпилоге читатель сталкивается с неожиданной тетиной болезнью — он поражается глубокому безразличию к жизни. Это породило «методичность и сухость» отношений к мужу.Петр Иваныч и с радостью починит (уйдет в отставку и завод продаст!), Но болезнь жены зашла слишком далеко, она не хочет выживать — ее уже не реанимируют. Дядя собирается перевезти ее в Италию — благополучие жены стало для него наивысшей ценностью.
Но Александр торжествует — он женится на богатой (очень богатой!) Девушке (не все ли она чувствует!), Он прекрасно идет по службе и в журналах. Наконец он доволен собой. Плохо только то, что поясница стала немного бить…
Роман, впервые опубликованный в «Современнике» в 1847 году, автобиографичен: В Саше Адуева легко узнал Иван Гончаров в то время, когда он все свободное время посвящал писанию стихов и прозы. «Булавками писаной бумаги я тогда возил печи», — вспоминал писатель. «Обыкновенная история» — первое произведение, с которым Гончаров решил выйти на публику. В стихах, приписываемых Саше, литературоведы узнают подлинные стихи автора (оставшиеся в черновиках).В стихах Сашаина «общие места» романтизма: и тоска, и радость недостижимы, с действительностью не связаны, «трепещущая внезапная хватка» и т. Д. И т. П.
Литературное направление
Гончаров — яркий представитель литературного поколения, которое, по выражению современного исследователя В.Г. Булкина: «Здравствуйте, старался подчеркнуть свою неприязнь, чтобы преодолеть их (как они постоянно убеждали себя и других) романтическое мировоззрение»: для него «антигрантский реализм был в 1840-е годы».Что-то вроде самостабилизации, расчета с романтическим прошлым. «
Жанр
«Обыкновенная история» — типичный романс воспитания, изображающий коренные изменения мировоззрения и характера главного героя — типичного молодого человека его поколения — под влиянием перемен в обществе и бытовых перипетий.
Проблемы
Проблема неизбежности перемен в человеке под влиянием перемен в обществе — главное в романе, но отношение к ней не однозначно: в названии есть доля горькой иронии, сожаления о наивности, но чистые идеалы молодости.Отсюда и вторая важная проблема, заключающаяся в том, что идеально адаптированный в социальном отношении человек не в состоянии гарантировать обычные общечеловеческие ценности (физическое здоровье, моральное удовлетворение, семейное счастье) ни себе, ни своим близким.
Главные герои
Адуев-мл. (Александр) — красивый молодой человек, с которым по ходу романа происходит «обычная история» терапии и мировоззрения.
Адуев-старший (Петр Иванович), дядя Александр, — «деловой человек».«
Лизавета Александровна — молодая жена Петра Ивани, мужа любит и уважает, но племяннику искренне сочувствует.
Стиль, сюжет и композиция
Романа Гончарова — исключительный случай стилистической зрелости, неподдельного мастерства дебютной работы. Ирония, пронизанная авторской подачей, тонкая, иногда необузданная и проявляется в обороте, когда простая, но элегантная композиция романа заставляет читателя вернуться к некоторым сюжетным конфликтам.Как и дирижер, автор управляет темпом и ритмом чтения, заставляя его прочесть ту или иную фразу или даже вернуться.
В начале романа Саша, окончив курс естествознания, живет в своей деревне. Мама и двор молятся ему, соседка влюбленной Софьи, лучший друг Поспелова пишет длинные письма и получает одинаковые ответы. Саша твердо уверен, что столица его ждет и в ней блестящая карьера.
В Петербурге Саша живет в соседней квартире, забывает Сонечку и влюбляется в Надю, которая посвящает романтические стихи. Надя, вскоре забыв свои клятвы, полюбила более взрослого и интересного человека. Так жизнь преподает Саше первый урок, уволиться от которого не так просто, как от неудач в стихах, в службе. Однако «негативный» любовный опыт Александра ждал своего часа и был востребован, когда ему самому пришлось оттолкнуть молодую вдову Юлию Тафаеву в неукрепленной церкви дяди.Подсознательно Александр закончил «Вести»: Юля, скоро они ушли, надо было терпеть вместо Нади.
И вот, когда Саша постепенно начинает разбираться в жизни, она ему противостоит. Работа хоть на службе, хоть в литературе — требует труда, а не просто «вдохновения». А любовь — это работа, и у нее свои законы, будни, испытания. Саша признается Лизе: «Я получил всю пустоту и всю незначительность жизни — и глубоко ее презирал».
И затем, в разгар Сачинов, «страдание» — это настоящий страдальец: дядя включен, невыносимо страдающий от болей в спине.И беспощадного племянника обвиняют еще и в том, что его жизнь не просила. У читателя есть вторая причина сожалеть о старшем asushadow — в виде подозрения, что он не только с поясницей, но и не работал с женой. Но вроде бы он добился успеха: скоро он получит должность директора конторы, звание фактического советника по Статистике; Он богатый капиталист-«заводчик», а Адуев-младший на самом дне жизненной пропасти. С момента его приезда в столицу прошло 8 лет.28-летний Александр с позором возвращается в деревню. «Стоило прийти! Прочный жезл Адува!» — вносит в их спор Петр Иванч.
Прожив в деревне полтора года и похоронив мать, Саша пишет умные ласковые письма дяде и тете, рассказывая им о желании вернуться в столицу и прося дружбы, совета и покровительства. На этих письмах заканчивается спор и история самого романа. Вроде бы вся «обычная история»: дядя был прав, племянник взялся за ум… Однако эпилог романа неожиданный.
… Через 4 года после вторичного приезда Александра в Санкт-Петербург он снова появляется, 34-летний испуганный, смущенный, но с достоинством «своего креста» — Орденом на шея. В позе дяди, уже «отпраздновавшего 50-летие», достоинство и уверенность в себе: больная и может быть опасна жена Лизы. Муж говорит ей, что она решила бросить службу, продает растение и увозит ее в Италию, чтобы отдать ей «остатки жизни».«
Племянник приносит дяде радостное известие: он ухаживал за собой молодой и богатой невестой, а ее отец уже дал ему свое согласие: «Иди, говорит, только по стопам своего дяди!»
«А помнишь, какое письмо ты написал из села? — говорит ему Лиза.« Вот ты понял, жизнь потревожилась … »И читателю невольно приходится возвращаться:« Это значит не впутываться в полноту. жизни ». Почему Александр сознательно отказался соответствовать соответствию жизни и собственному характеру? Из-за чего он цинично предпочел карьеру ради карьеры и брак ради богатства и без всякого интереса к чувствам не только богатого, но и молодая и, казалось бы, красивая невеста, которая тоже, как Лиза, «Дальше» и еще кое-что, кроме общего, имеет смысл! «?.. Чтобы ответить на все эти вопросы в эпилоге, нет места для ответа, и читатель должен просто поверить в такое перерождение поэта-романтика в скучного циника, а причины должен угадать сам.
В центре Романа — рассказ Саши Адууева, а название говорит о том, что его эволюция — обычное явление для его времени. Показывая нам перевоплощение восторженного, романтически настроенного юноши в расчетливых Дельцах и называя роман «Обыкновенная история», Иван Александрович делает широкое обобщение.Философское значение имеют споры Саши Адуева с их дядей Петром Иванчем. Они затрагивают вечные темы — темы любви, дружбы и творчества, и в этой связи автор имеет возможность рассмотреть многие из важнейших проблем. Первая проблема, с которой сталкивается Саша, — это вопрос, что такое любовь. Он утверждает, что это вечное и романтическое чувство, способное изменить всю человеческую жизнь, но сам не может доказать это своими действиями. Любовь такая, какой ее в начале романа представляет Саша Адуев, символизирует «желтый цветок».«Желтый цветок» — признак пошлости и глупой сентиментальности. Петр Иванич вообще отрицает существование любви и утверждает, что отношения мужчины и женщины строятся на привычке и взаимной выгоде. Но жизнь опровергает его теорию. В конце концов, Адуев-старший решает бросить все дела, забыть о льготах и уехать на время в Италию, чтобы поправить здоровье любимой жены.
Позиция автора где-то посередине между этими двумя противоположными точками зрения.Оба персонажа во время любовных споров представлены в ироническом свете. Скажем, когда Адуев-старший рассуждает о своей теории (мол, человеческие отношения строятся только на деловой, практической основе), его жена Лизавета Александровна и все ее построения опровергают.
В вопросе дружбы позиции героев тоже расходятся. Саша Адуев мечтает о «кровавых объятиях», «клятве дружбы на поле боя». Петр Иванч, выступая в данном случае как резонанс, учит своего племянника отличать настоящую дружбу, выражающуюся в конкретной практической помощи, от лицемерного опережения.Но с другой стороны, когда Саше оказывалась психологическая, эмоциональная помощь, когда он был в депрессии, то дядя не мог оказать ему этой помощи, но утешал Сашу Лизавету Александровну, женское сожаление.
И, наконец, третья тема разговора дяди и племянника — творчество. Саша Адуев, наполняясь стихами графомана и мечтающий о литературной славе, утверждает, что творчество присуще только искусству. Дядя убежден, что Истинный Творец может быть поэтом, математиком и часовщиком; Словом, любой человек, любящий свое дело и умеющий в привычном ремесле сделать что-то новенькое.
Проблемы, которые ставит автор в романе «Обыкновенная история», универсальны. Споры двух персонажей — Адууева-младшего. и Адува-старший. — вот как контраст автора с самим собой. Автор рассматривает проблемы с разных точек зрения, показывает возможность противоположных взглядов по одному и тому же вопросу. Но последнее слово всегда остается за Гончаровым, он всегда четко выражает свою авторскую позицию. В этом смысле «Обыкновенная история» — это философский роман, который, хотя и претендует на социальную пытку (ведь Саша Адуев — тоже своего рода «Герой своего времени»), тем не менее остается современным и по сей день, поскольку проблемы, затронутые в нем, вечные.
Одну из главных ролей исполнил не профессиональный актер, а крупный бизнесмен.
Замечательный русский писатель Гончаров, всего один роман, который был частью советской школьной программы, так как до нашего времени никто не дошел. Этап его выдающегося романа «Обыкновенная история» (год создания 1847) представлен Кириллом Серебренниковым в его Гоголевском центре. На красный вопрос — как поставить сегодня классику, чтобы не оскорблять память создателей и чувства верующих, — отвечает своей премьерой режиссер, — ставить жестко и хорошо.
В стоке Серебренникова сюжетная линия вообще не изменена — из точки «А» (одно село российской провинции) вышел Саша Адуев (с гитарой, идеалами и мечтами) в точке «Б» — Российская столица с чистым намерением покорить неприступное своим талантом. Там живет его дядя Петр Иванович Адуев, приятный, солидный, но очень циничный джентльмен, выдерживающий тристен-племя, как холодный душ. Столкновение молодежного идеализма и пережитого опыта цинизма — главный конфликт Романа Гончарова, неизменный во все времена.Только наше время придало ему особую резкость и жестокость.
Справка МК
Из досье «МК»: Иван Гончаров написал свой первый роман «Обыкновенная история» и был опубликован в журнале «Современник». Его часто сравнивали с романом «Отцы и дети». У него удачная сценическая судьба: «Обыкновенная история» 1970-х в постановке Галины Волчек получила государственную награду, а эталонными исполнителями этих ролей считались Олег Табаков (Адуев-младший) и Михаил Казаков (Адуев-старший). .Именно табаку в этом году отмечает юбилей, Кирилл Сильвентмен посвящает свое выступление.
На сцене — только свет и тень в прямом смысле слова: Успешный и богатый старшеклассник оказался монополистом на рынке светотехники. Он становится украшением: три гигантских буквы «О» бьются в холле холодным неоном и в различных сочетаниях разбивают мрачное пространство. Тот редкий случай, когда сценографическое решение становится выразительной метафорой (свет и тень, черное и белое), продолжающейся в костюмах (автор — сам Сильверников).Монохром — это скучно, но стильный Серезников настолько богат осмысленными оттенками (более 50?), Что позволяет избежать плоских ответов на плоские вопросы: кто хорош / плох? Кто прав / неправ? А какие значения сейчас в ходу?
В «Обыкновенной истории» режиссер не ответил, как выясняется, на обычные вопросы: с помощью Гончарова он посчитал время и поколение, жившие или рожденные в Новороссии. Один был в тяжелых кругах российского бизнеса (от малиновых курток до дорогих SMALTO или Патрика Хельмана), без лирики, zinicic, Effectiven, шустрость как ад, но разум почему-то приносит свою долю горя.Его антипод — симпатичный, любящий поэтов, порывистый, но инфантильный и с ослабленным чувством ответственности. Директор не скрывает своих симпатий — они на стороне Адуева-старшего. Серьезный этюд, похожий на дуэль с печальным концом — никто не убит, а жив, именно трупы дяди с племянником сидят на кладбищенской скамейке и смотрят в зал.
Интерес к почти трехчасовой дуэли (зал не дышит) обусловлен игрой актеров. В роли Адуева-младшего Филиппа Авдыева, но в роли его дяди, Алексея Аграновича, которого в Москве знают прежде всего как владельца собственной компании, продюсера, постановщика церемонии открытия Московского кинофестиваля в Москве.Удивительно, но это был Агранович, его игра придает действию особую надежность, и в результате они делают игру Серебренникова более чем успешной. Не черно-белая картина, а глубокий портрет поколений на фоне времени. Похоже, что Агранович даже не играет в предложенных обстоятельствах, а есть в них, как они ему знакомы. Алматы и готовка на посттрансфекционной мясорубке, похоже, готов подписаться под многими текстами Гончарова.Интервью с актером после спектакля.
— Алексей, мне кажется или действительно вы так хорошо знаете бизнес-среду, о которой идет спектакль?
— Я знаю эту драму и в себе. Деньги — да, важная вещь, но я знаю драму человека, который убедил себя, что ему не даны уникальные способности от Бога, и он начал заменять природу здравым смыслом и действенностью. Жизнь — штука жестокая, постоянно становишься перед выбором, который касается не только работы, но и личной жизни.
— Тем не менее, внесите ясность: у вас есть актерское образование? У вас прекрасная сценическая речь, поэтому легко чувствуете себя на сцене.
— Меня исключили с третьего курса Вгика, учился у Альберта Филосова. Он играл в спектакле «Чайка», немного работал у Трюччина, но это было 20 лет назад, и с тех пор я не играл в драме.
— А как вы попали в эту необыкновенную для вас историю?
— Я встречался с Кириллом Серебренниковым в разных компаниях.И он меня как-то спросил, не знаю, знаю ли я художника такого дела, с такими качествами — в общем, описал меня. Я ему несколько звонил, он сказал, что знает, но что-то там не могло произойти. «А ты сам не хочешь попробовать?» — он спросил. Я думала, что не была уверена в себе, а он не был уверен во мне. Но потом я решил, что они не отказываются от таких предложений. У меня до сих пор остается ощущение, что я снимался в плохой / хорошей американской драме.
— видели записи легендарного спектакля с Казаком и Тобаковым?
— Нет, скажу больше, роман раньше не читал.Смотреть боялся, теперь, когда уже поиграл, посмотрите ..
— А вы сами решаете дилером: кинизизм или безответственный идеализм?
— Здесь нет правды. В каждом из нас есть два Адувева и оставаться одним из них в чистом виде, значит быть либо идиотом, либо полным циником. Надо доверять Богу, судьбе — делать то, что надо, и будет так. Для меня очень важен финал в том спектакле, который придумал Кирилл — это такой реквием по исчезающей форме человека.Пришли новые люди, но … мы сами выросли. Все превращается в ничто — в этом главная заслуга и утверждение Кирилла.
В «Обыкновенной истории» заняты, как это часто бывает у Серебренникова, новое поколение (Чудесный Филипп Авдаев, Екатерина Стборд) и актеры бывшей труппы Гоголевского театра — Светлана Бригарник (у нее две роли) и Ольга Науменко (Невеста Женя) Лукашин из «Иронии судьбы»). Надо сказать, что последнее — это, по сути, один выход (не считая пения в трио на заднем плане), но один выход того стоит.
На сцене Гоголь-центра состоялась премьера нового спектакля Кирилла Серебренникова «Обычная история» по роману Ивана Гончарова им. Режиссер показал мастер-класс, как современный театр должен обращаться с классикой, чтобы работать честно и правдиво. Мы посетили
Пресса Романа Гончарова вышла в свет еще в 1847 году. С тех пор исчезли мелкое дворянство, крепостное право и табель о рангах. Все остальное вроде осталось. Сюжет романа универсален во все времена.Судите сами: зеленый провинциал приезжает покорять столицу, где его ждут всевозможные разочарования, трудности и соблазны. Сколько таких благодетелей французская литература отправила «потерять иллюзии» в искрящемся Париже, а американская — в Чикаго да Нью-Йорк в поисках пресловутой мечты. В наши дни, пожалуй, каждый москвич узнает Сашу Адуева в одном из своих знакомых или, скрепя сердце, в себе. Разве что желанный дядя будет далеко не у всех.
Поэтому посмотреть «обыкновенную историю» (название, правда, говорит само за себя) оказалось не так уж и сложно.Вместо благородного шасси дать герою гитару и джинсы, чтобы переехать в соответствии с историческими реалиями столицы из Петербурга в Москву, а дядюшка сделать предприимчивого бизнесмена, символически торгующего светом (правда, просвещение, надежды — ассоциативный ряд может продолжаться бесконечно). И вуаля — добро пожаловать в XXI век. С утратой галантных деталей XIX века история заметно озадачилась — как пропала пемза. Вряд ли благородный сын стал бы пакетом в мешках для мусора и использовал бы непечатный эквивалент слова «черт».Но это цена правды жизни: каждый раз приходится плести запах нафталина.
Сценография спектакля Трогательная символическая абстракция: отмечена черными рамками с практичными столами и стульями и несколькими концептуальными двигателями, такими как световой знак «Мама», клейкая буква «M» от входа в столичный метро и огромная буква «O». кто ненавязчиво манипулирует то героями, то рабочими сценами. Все это вместе с легким нюдом и ироничными бдсм-намёками создает гармоничный антураж для переноса вечных смыслов из языка XIX века в современный.
Каждый идеал неопытного племянника Дядюшки показывает прочную «подушку». Однако все они лишь проактивно-реальное, готовящее суровую реальность. Любовь проходит, грань между талантом и неприлипчивостью постепенно стирается, таяя иллюзии. Жизненный опыт разбивает розовые очки и приходит на страницы с наивными стихами, обманывающими и заставляющими обмануть.
Часто конфликт Саши и Петра Ивановича называют генеральной репетицией противостояния Обломова и Штольца.Но если в последнем, «побеждающем», все останутся верны своему роду, то автор выворачивается наизнанку. Мечтательный поэт превращается в безнадежного циника, а суровый дядя ждет потери настоящей любви. Потому что она ей кажется здесь. «Лучше не / света», — говорит сам за себя слоган новоиспеченного Саши-Дель. Герои хотят переправиться.
Современная «Обыкновенная история» вышла мрачно безнадежно, устрашающе, как ветхий подъезд с выбитыми лампочками — жизнь на ощупь в симфонии неприятных ощущений и запахов.Точной такой и должна быть русская аналогия мифа об «американской мечте». В точности сомнений не вызывает. Получилось парадоксально: максимальное восстановление литературного источника на современный лад Кирилл Серебренников подтвердил право Гончарова на бессмертие.
Аутоиммунное заболевание: отчет об истории — Журнал № 119, июнь 2021 г.
С недавним открытием абсолютного разнообразия и поддерживающей жизнь функции таких организмов, как дрожжи, вирусы и бактерии, которые населяют человеческий микробиом, медицинская наука придала потенциально новые значения давней традиции философской критики автономной самости и подобных понятий. как единственное-множественное число.Тем не менее, по иронии судьбы, его влияние в значительной степени ощущается на быстрорастущем образе жизни и рынках самосовершенствования, где, например, реклама ферментированных продуктов сопровождается ранее непредвиденными обещаниями здоровья и иммунитета посредством, а не вопреки сожительству человека и бактерий. Пандемия Covid-19, однако, отодвинула на второй план даже такую коммодифицированную науку о сосуществовании, восстановив — в коллективном воображаемом — милитаристскую концепцию иммунитета, в которой человек снова появляется как закрытая система, защищающаяся от инопланетных захватчиков.Но это единое и коллективное тело вряд ли противостоит вирусу в устойчивом состоянии: ожирение, хронические заболевания, аллергия, рак и пожизненная зависимость от фармацевтических препаратов отмечают растущую резервную армию тех, кто считается «с ослабленным иммунитетом» и, следовательно, особенно восприимчивым к вирусу.
Среди этих «основных состояний» — ряд все еще загадочных аутоиммунных заболеваний, само определение которых ставит под сомнение идею автономного существования. Термин «аутоиммунный», охватывающий более восьмидесяти различных хронических состояний, таких как ревматоидный артрит, рассеянный склероз, болезнь Крона, тиреоидит Хашимото и диабет 1 типа, обозначает иммунную систему, которая пошла наперекосяк и обратилась против собственных тканей — неправильно распознавая (предположительно ) себя как врага.Хотя аутоиммунитет был обнаружен в 1950-х годах и использовался в качестве объяснения уже существующих патологий, он получил более широкое признание только недавно, и состояния, подпадающие под его сферу компетенции, также увеличиваются, в настоящее время затрагивая от 5 до 10 процентов населения США, в основном женщин. . Обычно для лечения аутоиммунных заболеваний характерно повреждение тканей и малоизученный ритм обострений и ремиссий, аутоиммунные заболевания преимущественно лечатся пожизненным введением иммунодепрессантов, и их конечная причина остается предметом предположений.Как писал Эд Коэн, аутоиммунитет называет «известное неизвестное», которое «сопротивлялось любым оцифрованным, высокотехнологичным, генно-инженерным средствам, которые были брошены на него».
Можно ли рассматривать эту аутоиммунологическую загадку не только как медицинское, но и как историческое состояние? В самом деле, тот, чей этиологический кризис требует самого появления истории как выхода из эпистемологического презентизма, который Франсуа Лиотар в 1979 году диагностировал как состояние постмодерна, характеризующееся растворением «великих нарративов» в конкурирующих «языковых играх»? В нижеследующих примечаниях я предлагаю рассматривать аутоиммунное состояние и как медицинский диагноз, и как эвристический, периодизирующий прибор, этиологический тупик которого заключает в себе симптомы сегодняшних планетарных кризисов и в то же время активирует рост давление и желание преодолеть их.
Диагноз Немыслимое
Хотя гипотезы о физиологической аутореактивности появлялись в записях медицинских исследований, по крайней мере, с начала двадцатого века, диагноз аутоиммунитета оставался немыслимым до 1950-х годов, когда впервые были зарегистрированы термины «аутоиммунный» и «аутоиммунный». До этого существовал только иммунитет, который приобрел свое биологическое значение только в конце девятнадцатого века, путем слияния древнеримской концепции иммунитета, понимаемой как юридическое исключение, с политическим понятием самообороны, которое Томас Гоббс определил во время Гражданской войны в Англии. Война (1642–1651 гг.) Как первое «естественное право».Определенный таким образом биологический иммунитет укрепил развивающуюся область бактериологии и ее ключевой принцип, теорию микробов, которая связала болезнь с внешними микробными агентами, вторгающимися в организм и запускающими его защитный иммунологический ответ.
Думать о реактивности auto означало разрушить эту эссенциальную оппозицию между собой и другим, ярко выраженную в предположении рубежа веков horror autotoxicus — идее о том, что хотя тело технически может создавать аутоантитела и Обращаясь против своих собственных тканей, он обязательно будет регулировать против такого кощунственного, «дистелеологического» поведения.Теория зародышей, которая онтологизировала болезнь, связывая каждое состояние с конкретным патогеном, сама вытеснила более раннюю конституционную модель, которая рассматривала болезнь как комплекс внутренних нарушений, возникающих в результате взаимодействия индивидуальной физиологии и окружающей среды. В 1911 году Джордж Бернард Шоу посмеялся над этим сдвигом: «Мы остались в руках поколений, которые, услышав о микробах так же, как св. Фома Аквинский слышал об ангелах, внезапно пришли к выводу, что все искусство исцеления можно выразить следующим образом: формула: Найдите микроб и убейте его.”
Унижение Шоу позитивистского авторитета микроскопических свидетельств из пробирки — достоверность которых он приравнивает к ангельским, метафизическим слухам — является неудивительным случаем поэтического скептицизма по отношению к научному редукционизму. Тем не менее, скептицизм в отношении модели защиты от нападения сохранялся и в медицинском сообществе, поскольку ряд состояний (например, ревматоидный артрит) оставался без установленного виновного патогена и поэтому оставался необъяснимым. По-видимому, девиантные иммунные реакции, такие как аллергия и чрезмерная реактивность иммунной системы, все больше привлекали интерес исследователей по всей Европе и в США, чьи эксперименты в первые десятилетия двадцатого века включали открытия или гипотезы аутореактивности.К 1950-м годам (а позже у многих лабораторных обезьян с преднамеренными травмами головного мозга) нарушение правила horror autotoxicus стало все более распространенным объяснением ранее необъяснимых заболеваний и различных хронических воспалительных состояний. «Когда-то иммунологический солецизм», — пишут Уорвик Андерсон и Ян Маккей, — в послевоенные годы «аутоиммунитет стал широко доступным как концепция причинно-следственных связей», отмечая «изменение современных представлений о нормальном человеческом теле и его патологиях, а также сдвиг в теориях биологической индивидуальности и природы личности.Это изменение ни в коем случае не означало внезапного сдвига: аутоиммунитет только постепенно набирал приверженцев, оставаясь «упорно маргинальным и даже надуманным» понятием, которое «все еще возникает» и только недавно «начало находить свой голос в обществе». Андерсон и Маккей также утверждают, что это затянувшееся оппозиционное появление следует рассматривать как вызов преобладающему терапевтическому подходу, ориентированному на конкретное заболевание, и как призыв к возврату к конституциональной, модели Гиппократа, которая рассматривала болезнь как биографическую , идиосинкразию. процесс, требующий индивидуального комплексного подхода.
Тогда можно было бы сказать, что аутоиммунное заболевание представляет собой биомедицину с рядом парадоксов: аутоиммунное тело самоуничтожается и распадается на клеточном уровне, однако оно становится заметным и поддается лечению только как личность в целом. Отдельные ткани, исследуемые на предмет доказательств самонаступательной самозащиты иммунной системы, вынуждают извращенно специализированный современный биомедицинский аппарат отводить взгляд от своей острой, как бритва, микроскопической линзы и рассматривать размытые края древнего, гиппократовского взгляда с высоты птичьего полета.Наиболее важно то, что аутоиммунный субъект требует не просто спасения своей голой физиологической жизни посредством целенаправленного фармакологического вмешательства, но и возможности наделить эту жизнь текстом (биографией), возможностью восстановить свою историю. Что это за история?
По ту сторону самопринципа
Иммунологически разделенное тело — внутренне нетерпимое к самому себе — можно рассматривать как своего рода физиологический аналог психоаналитического расщепленного субъекта, никогда не совпадающего с самим собой, его целостность когда-либо искажалась темным царством бессознательного.Точно так же, как аутоиммунитет можно правильно лечить только «биографически», психоаналитическое «лечение разговором» зависит от представления о том, что можно зашить невыразимые раны и стирания психики, создавая осмысленное повествование о себе и своей жизни, выдуманное и (заново) построено, как это может быть. Медицинское открытие аутоиммунитета после Второй мировой войны также можно сравнить с открытием Зигмундом Фрейдом влечения к смерти после Первой мировой войны, основанным на его наблюдениях за психическими явлениями, такими как принуждение к повторению неприятного или даже травмирующего события.Свидетельства кажущегося нелогичным и причиняющее себе вред поведение эго открыли Фрейду неизведанную психическую территорию, лежащую «за пределами принципа удовольствия», точно так же, как саморазрушительный аутоиммунный ответ выявил живой организм, выходящий за пределы иммунологического принципа самоуничтожения. защита.
Чтобы объяснить влечение к смерти, Фрейд признал пределы своей существующей психологической модели и обратился за ответами к микробиологии. Он предположил, с большим количеством конфабуляций, что все живые клетки стремятся вернуться к своему первоначальному, неорганическому состоянию: неодушевлению или смерти, окончательной нейтрализации всех поступающих стимулов.Хотя Фрейд не говорил об иммунитете, его биологическое толкование влечений как механизмов, защищающих организм от чрезмерных возбуждений, структурно отражает роль иммунной защиты. Влечение к смерти, проявляющееся в принуждении повторить травмирующее событие, является сверхактивным и ретроактивным распределением такого щита, который компенсирует отсутствие защиты в фактический момент травматического «нарушения защитного барьера».
Подобно Фрейду, для объяснения сверхактивной реакции организма на его живые клетки послевоенные иммунологи должны были признать пределы своей биохимической модели и прибегнуть к (пере) теоретизированию биологического «я», черпая вдохновение в кибернетике и философии.Недовольный тем, что он считал преимущественно редукционистскими биохимическими теориями образования антител, австралийский иммунолог Фрэнк Макфарлейн Бернет искал «коммуникативную теорию клетки» в соответствии с работами Альфреда Норта Уайтхеда и Норберта Винера, которые включали идеи о биологической индивидуальности и идентичность как процесс формирования паттернов самонаследования и самосозидания. Ключевая иммунологическая загадка — это уже не вопрос защиты от конкретных захватчиков, а механизм распознавания и толерантности, вопрос о том, как в первую очередь различаются «я» и «чужое».
В заключении, подразумевающем отрицание онтологической самости, Бернет предложил теорию клонального отбора, которая объясняет, что «иммунологический паттерн» организма, то есть самопознание или самотолерантность, не был наследственным, а сформировался в эмбриональной жизни посредством мутации и клонирование лимфоцитов с разными антигенными рецепторами. Те лимфоциты, которые могут реагировать на антигены собственной ткани организма, разрушаются и не могут клонироваться, что объясняет возможное развитие самотолерантности.Таким образом, аутоиммунитет — это нарушение нормальной иммунологической функции, распространение самореактивных клонов лимфоцитов, что Бернет сравнил с «мятежом в силах безопасности страны», отказом в коммуникации и контроле в иммунной системе, нормальным функцию, которую он также сравнил с «контролем над преступностью или правонарушением или экономикой индустриального общества».
Против чего восстает эта мятежная армия клеточных клонов? Модель Бернета сформирована не только кибернетикой — очевидной в его бинарной модели «я» и других «один-против-ноль», — но также и воображаемой холодной войной угроз государственным границам и нормальному функционированию «индустриального», то есть капиталистическая экономика.Его идея самоидентификации может быть не онтологической (организм не «мыслится» как я; он становится единым во время эмбрионального развития), но телеологической. Самоидентификация позиционируется как цель, которую в конечном итоге необходимо достичь здоровой иммунной системе — и, по логике метафор Бернета, здоровому «я», здоровому состоянию, здоровой экономике. Неслучайно аутоиммунитет определяется как патологическая неспособность достичь последовательной самости именно в послевоенную эпоху в США, когда индивидуальная свобода стала ключевым идеологическим оружием в организованном американском иммунологическом ответе на ужасную угрозу коммунистического, коллективистско-тоталитарного вторжения. , включая угрозу рыночной экономике.Переведенный обратно в воображаемую эпоху холодной войны, аутоиммунный «мятеж» подразумевал не просто патологию, но также сопротивление идее индивидуальной свободы, сведенной к личным интересам (как это определяется капитализмом). Аутоиммунный «мятеж» Бернета может быть не чем иным, как угрозой коммунизма.
Главным образом в разговоре с размышлениями Жака Деррида об аутоиммунитетах в его поздних работах философия и медицинские гуманитарные науки в течение последних двух десятилетий уловили этот бунтарский микроб, присущий нарушению аутоиммунитетом границ между самостью и инаковостью.Аутоиммунитет анализируется не как показатель патологии, а как концепция с критическим и даже политическим потенциалом, которая может указать путь к более радикальной или экологической концепции жизни, а также за пределами человеческой исключительности. Такой взгляд соответствовал бы общей современной склонности думать о политике с точки зрения уязвимости, а о теле как о основании для политической субъективации, ограничения, которые Марина Вишмидт определила как основанные на определенном «антиисторическом формализме».«Перспектива аутоиммунитета, которую я хочу здесь исследовать, также направлена на то, чтобы увидеть ее за пределами презентистских терминов обобщенной логики идентичности и изменчивости, основанной на научном открытии (или интерпретации)« как »предположительно универсального биологического состояния. Именно аутоиммунитет как этиологическая загадка, «известное неизвестное» требует, чтобы мы рассматривали его также с точки зрения «почему» — как историческое состояние, как в смысле его исторического возникновения как диагноза, так и с точки зрения диагноза. рассматривают его растущую распространенность как изнурительное, иногда опасное для жизни состояние, история болезни которого все еще открыта.
Этиология настоящего
Этот поиск причин — который в значительной степени продолжается в медицинских исследованиях с рядом существующих гипотез — включает не только новую активацию «биографического» подхода Гиппократа, как утверждали Андерсон и Маккей с точки зрения лечения. Это также требует контрпредставительства, исторического поворота, который может помещать отдельные истории в их более широкую материальную и историческую среду. Такой поворот разыгрывается в онлайн-лекции-перформансе дуэта художников Голдин + Сеннеби Star Fish и Citrus Thorn , являющейся частью их текущего проекта Crying Pine Tree , романа об аутоиммунном дереве, начатого в 2020.В спектакле Голдин + Сеннеби прочитали два параллельных рассказа: один об открытии Эли Мечникова в 1882 году биологического иммунитета, которое произошло, когда он вставил шип цитрусовых в прозрачное тело личинки морской звезды и наблюдал за его защитной реакцией под микроскопом. Другой рассказ о постоянном воздействии этого открытия на тело Якоба Сеннеби, одного из членов артистического дуэта, который живет с диагнозом рассеянный склероз, аутоиммунное заболевание, которое повреждает нервные оболочки тела.Рассказы сопровождаются живой записью микроскопической камеры листа бумаги, окрашенного тремя различными тканевыми красками, которые, как объясняют художники, Мечников использовал, чтобы сделать лабораторные образцы «читаемыми» под микроскопом.
Рассказ Голдина о наблюдениях Мечникова за морской звездой переплетается с воспоминаниями Сеннеби о его первой встрече с МРТ, когда его собственное тело было «сделано читаемым» для биомедицинских технологий. Близорукое, микроскопическое зрение камеры сопоставляется с рассказом Сеннеби о жизненном опыте, связанном с началом его болезни, что в конечном итоге подтверждается статическим изображением «пятен» на его головном и спинном мозге на МРТ-сканировании и представлено ему в качестве доказательства. его аутоиммунитета.Сеннеби не верит диагнозу, утверждая, что его лучше назвать «сюрреализмом». Сюрреалистическое неверие Сеннеби в биомедицинский диагностический аппарат подкрепляется параллельной деконструкцией его Голдином с помощью истории, рассказывающей об историческом происхождении биологического иммунитета в конце девятнадцатого века. Личинка морской звезды, пронзенная шипом и помещенная под микроскоп, чтобы показать ее защитную реакцию, внезапно выглядит иначе и менее прозрачной, когда наблюдающий ее ученый, Эли Мечников, представлен как русский еврей, который «поспешно покинул свой дом и университетскую должность. в Одессе в начале того же года, после вспышки антисемитских погромов, и жил в изгнании на Сицилии.”
Биомедицинская технология в Star Fish и Citrus Thorn , можно сказать, воплощает идею Фредрика Джеймсона о смерти историчности в позднем капиталистическом постмодерне, один из аспектов которой он описывает как «сокращение нашей темпоральности до настоящего тела. ” Сопоставляя вневременной, близорукий взгляд на тело в биомедицинской лаборатории с биографическими и историческими повествованиями, Голдин + Сеннеби создают диалектический образ, который сразу идентифицирует этот презентистский, телесный редукционизм и активирует желание преодолеть его, предоставляя пораженное тело — который задуман как индивидуальный, так и коллективный, как «личинка морской звезды» и «Якоб Сеннеби» — с очертаниями его истории.В повороте, напоминающем то, что Лоран Фурнье называет возникающим «автотеоретическим поворотом», здесь auto или «я» является одновременно центральным объектом исследования и просто отправной точкой. Аутоисторическое Я больше не просто биографическое, это история болезни генерализованного аутоиммунного заболевания.
Очертания такого исторически сложившегося аутоиммунного состояния можно прочесть с помощью различных гипотез относительно его этиологии. Исследования связи между аутоиммунитетом и выработкой гормонов основаны на статистике, согласно которой более 70 процентов пациентов с аутоиммунными заболеваниями составляют женщины.Этот факт позволяет установить еще одну связь с психоанализом через исследования Фрейда по истерии, которые также представляют собой проблему этиологии. Первоначально Фрейд предположил, что истерия возникла в результате сексуального насилия в раннем детстве, которое он эвфемистически назвал «соблазнением», но позже он отступил и предположил, что насилие могло быть не продуктом опыта его пациента, а его воображением, даже принятием желаемого за действительное. , объясняется его новой теорией эдипальной структуры. Таким образом, возможное социальное, материалистическое объяснение было заменено психологическим, структурным, элементы которого были взяты из репертуара мифа и литературы.Несомненно, предположение Фрейда о сексуальном насилии как о причине психологического расстройства должно было спровоцировать для его коллег-мужчин скандал, похожий на «дистелеологическое» нарушение horror autotoxicus , только здесь в обратной логике, предполагающей, что истерическое состояние не само собой разумеющееся. вызвано, но результатом внешних, давящих обстоятельств. Точно так же длительное сопротивление более широкого научного и медицинского сообщества теориям и экспериментальным данным об аутоиммунности могло быть связано с постепенным ритмом смены парадигм в науке, а также с усвоенной христианской догмой о телесной целостности и табу на самоубийства.Но это также несомненно было связано с гендерным характером диагноза и неоднократным переживанием пациентами игнорирования своих симптомов как «чисто психологического» или даже «истерического», что приводит к годам, а иногда и десятилетиям жизни с отягчающими симптомами. , и без диагноза, а значит, и без лечения. Это все в вашей голове!
Появились различные гипотезы, описывающие рост аутоиммунитета. Гипотеза инфекции предполагает, что аутоиммунные расстройства, хотя и проявляются как аутореактивность, в конечном итоге вызваны более ранним вторжением микробов, которое осталось незамеченным.Если это правда, это будет означать, что со времен классической иммунологии ничего не изменилось. Генетическая гипотеза рассматривает аутоиммунитет как наследственное состояние, но эта точка зрения усложняется новой наукой эпигенетики, которая показывает, что биология — это не судьба, а генетический состав не просто дан, но сильно зависит от факторов окружающей среды. Фактически, большинство объяснений этиологии аутоиммунных заболеваний действительно учитывают факторы окружающей среды и обычно основываются на идее аутоиммунитета как «западного» состояния, с большей распространенностью в промышленно развитых странах.Гипотеза компенсации беременности возникла недавно, она основана на гендерной распространенности заболеваний в промышленно развитых странах и на том факте, что у женщин больше не так много детей, как в прошлом. Идея состоит в том, что иммунная система женщины, обычно повышенная во время беременности, больше не работает, как в доиндустриальные эпохи. Гипотеза гигиены — которая не согласуется с нынешней пандемией — предполагает, что у членов гиперстерилизованных, полностью вакцинированных и богатых обществ не осталось никаких насекомых, с которыми нужно бороться, поэтому их иммунная система ослабла и обратилась против них самих.Согласно этой логике, избыток иммунитета вызывает аутоиммунитет. Эта идея, пожалуй, более пугающая, когда применяется к реальной угрозе так называемых супербактерий, у которых развилась устойчивость к антибиотикам и которые, таким образом, являются ярким примером иммунологического переворота в аутоиммунный.
В отличие от классических эпидемиологических врагов в виде эпидемий, которые преследовали мир на протяжении столетий и которые усугубляются бедностью и плохими гигиеническими условиями, аутоиммунитет был классифицирован как так называемые «болезни изобилия», в отличие от болезней изобилия. бедность.Такой взгляд усложняется продемонстрированной связью между травматическим опытом и аутоиммунитетом, что могло бы помочь объяснить высокую распространенность аутоиммунитета как в промышленно развитых странах, так и в неблагополучных социальных группах, таких как женщины и этнические меньшинства. Эта одновременность изобилия и дефицита, переход одного в другое является наиболее симптоматическим моментом этиологического исследования аутоиммунитета и наиболее очевидна в том видном месте, которое отводится «западному» образу жизни и диете как факторам, способствующим аутоиммунным заболеваниям. в том числе «с высоким содержанием жиров и холестерина, с высоким содержанием белка, с высоким содержанием сахара и избыточного потребления соли, а также частое употребление обработанных продуктов и фаст-фудов.Такой диагноз «избыточного», но недостаточного «потребления» питательных веществ указывает именно на фальшивое, избыточное изобилие капиталистического консьюмеризма, которое консолидировалось в реструктурированном кормлении капиталистических желаний потребителя, в котором доминируют США, после Второй мировой войны. , как раз в то время, когда аутоиммунитет был предложен как теория суверенной самости, что пошло не так.
Под гегемонистским императивом стремиться к счастью посредством «избыточного потребления» бесконечного потребления, суверенное, иммунное, «западное» «я» становится аутоиммунным и растворяется в самом наслаждении своим «стремлением к счастью», которое, по словам Антонии Маяка пишет, что это не что иное, как американский либерал, прозвище Джефферсона за «погоню за собственностью» Локка.Самоуничтожение, свидетельствующееся таким корыстным преследованием, раскрывает аутоиммунитет как самую «нелогичную логику» иммунитета, как предположил Деррида. Но переход иммунитета в аутоиммунный также можно рассматривать как историческую преемственность. Если иммунитет понимать как социальную и политическую логику суверенитета, основанную на переопределении исцеления как войны другими средствами (естественное право Хоббса на самооборону) в девятнадцатом веке, то и фрейдистское влечение к смерти, и аутоиммунитет предполагали темную сторону иммунитет в два исторических момента, резко отмеченных смертью и катастрофой.Фрейдистское влечение к смерти стало окончательным ударом по агрессивному либидо современного буржуазного рационалистического cogito европейского капиталистического колониализма после Первой мировой войны и конца «эпохи империи». После Второй мировой войны и разрушительной иммунной логики Освенцима и Хиросимы «искать и уничтожать» открытие аутоиммунитета распространило этот сверхприятный удар на выжившее тело когито, которое затем растворилось в «избыточном потреблении» «удовольствия» за ход глобальной капиталистической экспансии.В отличие от этой самоубийственной (авто) иммунной логики, международные социалистические и деколониальные движения как альтернативы глобальному капитализму двадцатого века предложили и практиковали более конструктивные способы растворения тюрьмы либерально-капиталистического Я и его ключевого принципа. , частная собственность. Но к 1989 году «западное изобилие», то есть капиталистическая нехватка, замаскированная под изобилие, было повсюду, и загадка аутоиммунного заболевания превратилась в глобальную проблему.
Аутоиммунное заболевание представляет собой набор разнообразных хронических симптомов, которые не являются сразу смертельными, а скорее приходят и уходят, онемели и ослабляют конечности, затуманивают мозг, оставляют тело без энергии для выполнения даже самых обычных задач, вызывают острое воспаление. ткани и постепенно поедают органы.Это накопление симптомов на индивидуальном уровне перекликается с текущим моментом затяжного планетарного кризиса, своего рода медленным апокалипсисом, в котором «иммунологическая» защита — в форме защиты индивидуальных свобод и частной собственности, контроля национальных и расовых границ, извлечения рабочей силы и ресурсов. и уничтожение конкуренции при максимальном увеличении производства и потребления — обернулось или, скорее, оказалось самоубийственным. Этот переход иммунитета в аутоиммунный более очевиден на конкретных примерах, которые отмечают современную реальность на социальной и геополитической периферии глобального капитала.Разрушительная история, которую Шармила Рудраппа рассказывает о фермерах из южной Индии, которые покончили жизнь самоубийством, отравившись тем же пестицидом, который использовался для защиты урожая сахарного тростника, говорит об аутоиммунной логике капитала, который заставлял фермеров убивать себя, чтобы не страдать от еще худших последствий. о неспособности выплатить свои ссуды под высокие проценты, если их урожай остался неоплаченным или непроданным.
Тем не менее, в зеркале аутоиммунитета, рассматриваемого как условие «западного изобилия», глобальная капиталистическая колониальность выглядит как смерть от тысячи сокращений.Бывают периоды ремиссии 90–242, периоды 90–243, когда все кажется лучше, или даже когда кажется, что совсем ничего; когда кто-то сомневается в диагнозе, связывая симптомы с рядом других потенциальных причин. Но начало вспышки , внезапное резкое повторное появление или ухудшение симптомов, побуждает к еще одному поиску , , отсутствующей причины, , изображения, которое каким-то образом проясняет точную структуру и генеалогию страдания. Однако этот образ никогда просто не превращается в решительного причинного агента, а пикселируется в никогда не собираемой полностью сумме своих эффектов, как в понятии Луи Альтюссера «последней инстанции», с помощью которого он пересмотрел классическое марксистское понимание зависимость надстройки от (экономической) базы.
Этиологические великие повествования и наш хлеб насущный
Нынешний момент кажется временем, когда заметность кризиса — обострение «симптомов» — вызывает лихорадочные поиски причины, образа этиологии настоящего. Теоретические и академические концепции, такие как антропоцен, капиталоцен, наследственность, колониальность, космизм и большая история, все отмечены процедурами историзации, которые пытаются назвать конечную причину или происхождение катастрофы настоящего, независимо от того, находят ли они «Виновником» быть человек, капитал, колониальная матрица власти, (пост) кантианский корреляционизм, смерть или даже Большой взрыв.Это очевидно также в более «профанных» сферах, таких как питание, где «палеодиеты» стали заметными (как способ преодоления неолитического перехода к оседлому образу жизни и питанию, основанному на зернах), популярные истории Homo sapiens и его историческая дуэль с другими человеческими видами, вплоть до маргинальных теорий заговора относительно деятельности древних инопланетных цивилизаций на Земле — это возрождение интереса к longue durée и глубокой истории в последнее десятилетие указывает на отрицание предположительно смертельной дуэли постмодернизма с историей и ее грандиозными повествованиями.Если постмодернистское состояние характеризовалось пространственностью времени и растворением историчности в наборе фрагментированных и разрозненных нарративов и «языковых игр», то теперь великие нарративы возвращаются на сцену, хотя бы в форме этиологической реконструкции. как своего рода deux ex machina, чтобы спасти неизлечимое.
Как было показано, аутоиммунное состояние может заключать в себе этот сдвиг — от пространственно-пространственного настоящего, уменьшенного до диагностированного тела, к этиологическому поиску биографических и исторических причин диагноза.Но презентистская идеология научно-обоснованной науки, основанная на анонимных экспертных обзорах и двойных слепых исследованиях — несмотря на общепризнанный «кризис воспроизводимости» — плохо подходит для доказательства гипотез, которые зависят от стольких «факторов окружающей среды» и чья причинная связь становится очевидно только в последнем случае Альтюссера. (Авто) биографические данные или свидетельства могут помочь лишь частично, поскольку в принципе их следует относить к просто «анекдотическим» свидетельствам. Такая тупиковая ситуация, из которой проблема диагностики аутоиммунитета является лишь одним примером, породила еще один современный симптом: растущее недоверие к науке и научным методам, а также обращение к множеству альтернативных методов лечения из новых областей интегративной медицины. и «функциональной» медицине, незападной и народной медицине, шаманизму, различным практикам нового века, особым диетам и методам голодания, гуру-врачам в Instagram (с их линиями добавок), диагностике Google, группам в Facebook, посвященным конкретным диагнозам, и встреча всего вышеперечисленного на совершенно новой концептуальной территории под названием «заговор».”
Одно из наиболее часто обсуждаемых лекарств в этих разнообразных «альтернативных» сферах — это изменение диеты, что снова отражает выдающееся место «избыточного потребления» в обществах «западного изобилия», а также своего рода автономизацию питания в западных обществах. где он представляется не столько пищей, сколько возможностью для индивидуального (кулинарного) творчества, с ресторанами, превращающимися в новые музеи, отображаемыми и рассматриваемыми как туристические достопримечательности, с блогами о еде, фотографиями еды, кулинарными шоу, знаменитыми шеф-поварами и звездами Мишлен, растущими пропорционально из-за нехватки времени, энергии и ресурсов, которые у позднего капиталистического субъекта есть на то, чтобы покупать, выращивать и готовить питательную пищу для себя и своих близких.В этой депривации, которая скрывается за изобилием, различные «аутоиммунные протоколы» предполагают, что аутоиммунитет можно вылечить «исключающими диетами» или методами голодания, основанными на открытии аутофагии, награжденном Нобелевской премией (своего рода положительный аналог аутоиммунитета, в котором клетки регенерируют, «поедая себя»).
Интересно, что в этом репертуаре вызывающих пищу продуктов снова можно найти элементы, которые выходят за рамки физиологических последствий их потребления и уходят в историю.Один из наиболее часто подозреваемых виновников аутоиммунных реакций, глютен, можно рассматривать в свете биохимических теорий белковых молекул, вызывающих воспаление. Но он также выглядит как ключевой антигерой недавних историй, которые буквально «против зерна», предлагая выращивание пшеницы в качестве ключевого фактора, который помог зародить теперь гегемонистскую форму правления, государство, которое, можно добавить, что это парадигматический случай иммунологической изоляции, когда ее территориальные и национальные границы защищают от «вторжения» других мигрантов.Уже упомянутые «палео» диеты удаляют все зерна, основываясь на археологических находках удивительно хорошего здоровья наших палеолитических предков, и очень позднем — с точки зрения глубокой истории — появлении зерна в эпоху неолита, к которому человеческие тела имели еще не адаптирован. Таким образом, в палеодиете аутоиммунитет излечивается посредством исторического регресса, выходящего за рамки иммунитета, или оседлого, захватнического и одомашнивающего образа жизни и производства, связанных с антиподом палеолита, эпохой неолита.Другой подозреваемый продукт питания, молочные продукты, является примером пищи, принятой многими незападными странами как символ цивилизации и изобилия, за счет больших экологических издержек. Сахар, конечно же, наиболее тесно связан с историей колониализма и его проведением и соблюдением границы между дикостью и утонченностью.
Просыпаться от конца истории
Даже если все эти авантюры от настоящего в кризисе к глубокой истории являются, как я предположил, в первую очередь этиологическими поисками, которые не обязательно переводятся в социальные и политические действия по устранению последствий индивидуального и коллективного кризиса, взятых вместе, они по-прежнему проявляют все более сильное желание получить такое лекарство.Пробуждение от мечты о конце истории возродило энергию для восстановления альтернативных, ранее подавленных видений как истории, так и будущего, а также породило новую борьбу. Например, антирасистские движения и движения коренных народов основаны не на простом выражении насущных озабоченностей, а на их формулировании как истории настоящего. Для движения Black Lives Matter насилие со стороны полиции на расовой почве невозможно отделить от улиц США, отмеченных историческими памятниками, совпадающими с историей рабства, расизма и колониализма.Даже если активация таких контр-историй включает множественные и разнообразные индивидуальные и коллективные переживания, они больше не являются разрозненными «нарративами», не говоря уже о «языковыми играми» постмодерна, эффект которых исчерпывается самой их множественностью. Напротив, они представляют собой примеры «повествования о земном выживании», конкретных историй, которые указывают на универсальность и которые встречаются в общей точке — натиске на ограды неподдерживаемого, непригодного для жизни настоящего.
Такая освободительная историчность, возникающая в разгар острого кризиса, не беспрецедентна, и неудивительно, что сегодня «тезисы по истории» Вальтера Беньямина, написанные во время Второй мировой войны, имеют такую теоретическую и поэтическую привлекательность.Гораздо меньше цитируется The Crisis of European Sciences, текст другого немецкого еврейского философа Эдмунда Гуссерля, написанный в 1930-х годах в разгар нацистского захвата. В этом тексте Гуссерль признал пределы своего собственного более раннего метода «феноменологической редукции», определенного как научно-философское исследование отношения между интенциональным сознанием и его предполагаемым объектом, и предложил то, что он назвал «исторической редукцией», основанной на открытие того, что ни объект, ни сознание не существуют просто здесь и сейчас, без истории.Под «слоями» того, что он назвал «кризисом европейских наук», воплощенным математизированной наукой и философией, возникшей после Галилея, лежал «жизненный мир», чьи «отложения» и «горизонты» необходимо было раскопать, если человечество хочет преодолеть условия жизни в непригодном для жизни мире.
Наконец, давайте не будем забывать и протест пациента — воплощенный в перформативном слиянии Голдина и Сеннеби аутоиммунитета с сюрреализмом — против самих условий диагностики и предлагаемых методов лечения.Кто знает, может, аутоиммунитет все-таки окажется сюрреалистичным. Собранные в виде отдельных пикселей, которые сливаются в изображение, каким бы размытым оно ни было, как «основанные на доказательствах», так и «анекдотические» случаи рассказывания историй, касающихся известного неизвестного аутоиммунного состояния, сливаются в целую историю , рассказ о которой может указывать на выход из планетарного (авто) разрушения. В их центре находится аутоиммунное тело, которое отреагировало на социальную автономизацию и изоляцию, умножившись внутри себя, в отчаянной попытке компенсировать потерю как политики, так и социальности жестом слабого героизма, пообещав свое «согласие не действовать». единственное существо »- также взяв в залог, как мы надеялись рассказать в этой истории, не быть единым существом с историей.

 Для людей, которые, к сожалению, умерли раньше времени, ничего не оставив, кроме моей памяти….Ни одна из их жизней не встала на свои места; ни в одном из них не было много любви, радости или, временами, даже смысла; и ни один из этих людей не добился многого, пока они могли…. Они прошли через агонию перед смертью и ушли в печали. Умирая, они чувствовали себя обделенными, опозоренными, обманутыми.
Для людей, которые, к сожалению, умерли раньше времени, ничего не оставив, кроме моей памяти….Ни одна из их жизней не встала на свои места; ни в одном из них не было много любви, радости или, временами, даже смысла; и ни один из этих людей не добился многого, пока они могли…. Они прошли через агонию перед смертью и ушли в печали. Умирая, они чувствовали себя обделенными, опозоренными, обманутыми.